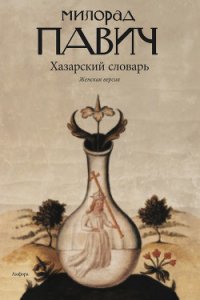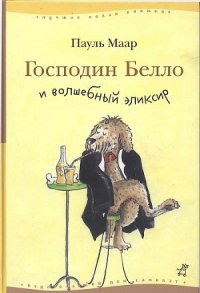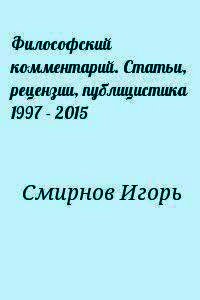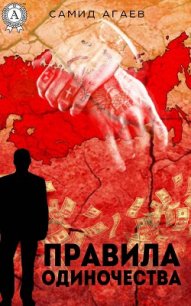У бирешей - Хоффер Клаус (читать книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Глава пятая
У ШКУРОДЕРА
Путь к шкуродеру, в чьи обязанности входило похоронить пса Де Селби, был долгим и утомительным, хоть улица и вела все время вниз, под одним и тем же уклоном, так что тачка катилась впереди меня, будто обретя самостоятельность. Впрочем, теперь мне уже было известно коварство здешних дорог, и сегодня все было как вчера, а потому я легко избегал выбоин, которые после недавнего дождя были до краев полны водой. Я предложил Де Селби положить в тачку его собаку, карликовую помесь овчарки с сенбернаром, прикрыть труп пологом, а на него сложить почту, ждущую доставки. На тот случай, если бы все не уместилось в тачке, я мог переложить часть отправлений в маленький рюкзак, который дядюшка использовал, когда почты набиралось слишком много. Но Де Селби отклонил мое предложение, и, хоть труп собаки (оставленный им перед входом в магазин, у коврика) был весь перепачкан кровью, он взялся нести его сам. Спинной хребет пса был переломан. Его тело, как тяжелый мешок, провисало на руках у служки.
Всю сырость будто кто вылакал из этого мира. Было жарко, и в воздухе слышалось странное гудение, исходящее непонятно откуда. Иногда оно звучало так близко, что вы невольно оборачивались, но там ничего не было, и казалось — звук раздается внутри вас.
«Покоятся руки усердного, — повествует легенда. — Ничто не шелохнется, воздух недвижен, как зеркало. Возможно, где-то далеко отсюда сейчас совершается преступление: до того безымянным, бессильным выглядит все кругом. “Как мое имя?” — спросишь ты в такую минуту. И ответом тебе будет сие немолчное гудение, сей шелест. Тот шорох, что исходит от самых волос мира, поворачивающегося на другой бок в своей огромной постели».
Мне не хотелось затевать разговор, и Де Селби молчал. Одна лишь тачка, поскрипывая, торила себе путь по щебенке и грубому песку. Так мы плелись, скорее, в полусне, чем наяву, между белыми домами бирешей. Дома, казалось, тоже были заняты исключительно сами собой; они там и сям выглядывали из-за увечных плодовых деревьев. Фасады недружелюбно отсвечивали на солнце; деревянные входные двери были заперты. Срубы отдельно стоящих подсобок напоминали экзотические надгробные памятники. Расстояние между жилыми фермерскими домами и хозяйственными постройками было нерациональным, утомительно большим, и наша усыпанная щебенкой дорога пролегала между ними так, будто не имела ни малейшего отношения к домам. Иногда какой-нибудь дом был обращен к нам задом — казалось, он находится в ссоре с другими. Повсюду тихо клохтали индюки, священные животные монотонов. То был какой-то проклятый мир, но я уже наполовину был его частью.
Первым домом, перед которым мы остановились, была маленькая, выбеленная известкой хижина, которая, похоже, состояла из одного-единственного крохотного помещения. Дверь была распахнута настежь, как это обычно бывает у цыган. Перед нею, на солнце, с выжидающим видом стоял полуодетый человек в широких синих слесарских штанах, спереди расстегнутых, и, не делая иных телодвижений, время от времени щелкал подтяжками по голому торсу. Он курил сигару, с размеренными интервалами поднося ее ко рту размашистым движением, будто хотел утереть губы.
Дом стоял недалеко от дороги на низком холме, в который наша дорога была врезана наподобие рва. Рядом с домом лежали сложенные штабелем доски. К ним был прислонен легкий мотоцикл с большими колесами. Человек, в котором я, подойдя ближе, признал второго крестного, опирался левой рукой о стену дома, наблюдая за нами, причем иногда он небрежно поворачивал голову, как будто сообщая кому-то внутри о происходящем снаружи. Из портативного радиоприемника, засунутого в карман штанов, с трудом пробивались мелодии народных танцев. Сами же звуки были легкие и быстрые, как слова в ненароком брошенной фразе, которую никто не воспринимает всерьез. Так как крестный был без шапки, он выглядел совсем по-другому, чем вчера. Его голова была обрита наголо, глаза сидели глубоко, и их косящий взгляд лениво скользил от предмета к предмету, по видимости не останавливаясь ни на чем особо. Выражение глаз, как и весь его облик — короткий нос со вздернутым кончиком, незастегнутые штаны, а вдобавок еще и острый горб — всё вместе создавало впечатление откровенной жестокости.
Я поставил тачку на обочине дороги и достал рассылки, на которых стоял номер этого дома, чтобы отдать их крестному. Не обращая внимания на протянутую ему руку с почтой, он орудовал правой рукой в кармане штанов, пытаясь убавить громкость приемника. Сначала пошел треск, потому что он потерял волну, потом раздалось монотонное урчание, которому он положил конец, крепко стукнув по корпусу. Я встал слева от него, как советовала тетушка, а потому его глаза, не находя меня (возможно, оттого, что я стоял слишком близко), перебегали то в одну сторону, то в другую, как при чтении, обыскивая окрестный ландшафт, строчку за строчкой. Потом он все-таки повернулся ко мне, коротко посмотрел на меня и мимо меня и сказал: «Вышвырните это дерьмо!» Изнутри дома донесся голос: «Оставь его в покое!» — крикнула женщина. Она тут же показалась в дверях и попросила меня — таким тоном, словно извинялась за нанесенное крестным оскорбление, — дать ей рекламные рассылки. Ее я тоже уже знал: это была жена четвертого крестного, накануне вечером она сидела в той компании за соседним столом и производила печальные аккорды, водя указательным пальцем по краю бокала. Рукава ее блузки были закатаны, руки были толстые и мясистые. На них можно было разглядеть вставшие дыбом светлые волоски. Я отдал ей почту, и она — таким движением, будто хотела подвести итог: дескать, я и так видел более чем достаточно, — опустила рукава и застегнула верхнюю, расстегнутую пуговицу блузки. Она выглядела крепкой и в то же время какой-то забитой, плечи у нее были опущены вперед, будто она была уже совсем старой, ее шаги были порывистыми, как у алкоголички, и все же казались робкими и неуверенными. Она ушла в дом в сопровождении второго крестного, чьи движения, в противоположность ей, поражали хищной быстротой и выверенностью. «Хад-каль», говорил Цердахель, «Острый-и-быстрый» — так, мол, скоро будут называть первого крестного. Имя скорее подходило вот этому человеку, который, прежде чем скрыться в полумраке дома вслед за женщиной, еще раз обернулся и, нарочно растягивая слова, чтобы больше ранить, бросил Де Селби: «Ну и собачья сегодня погодка!» В подкрепление своей насмешки он сделал вызывающее движение головой и на максимальную громкость врубил музыку в карманном радио. «Это были вы! Это вы его убили! — вне себя выкрикнул Де Селби. — Вы убийца, да, да!» И он, словно вообразив себя общественным обвинителем, высоко воздел на руках труп собаки, на обозрение. Неужели до него не доходило? Как раз то, что он так громко вопил, являлось доказательством, что он ничего не понял. Его пафос в эту минуту был смешон — ведь тот тип и так уже открыто сознался во всем и, выставив Де Селби на посмешище, скрылся в доме не сказав ни слова, только чуть передернув плечами и горбом.
Я остался стоять в нерешительности: внутри жена Рака что-то настойчиво говорила второму крестному, переходя от возбуждения на шепот, а тут, снаружи, безудержно рыдал Де Селби, зарывшись лицом в шерсть пса. Такое зрелище одновременно отталкивало и вызывало сострадание. Шепот женщины вдруг перешел в громкий плач. «Боже мой, — стенала она, — они нас погубят!» Крестный ее грубо осадил — минуту стояла тишина, потом она вновь принялась голосить, причем голос ее взбирался все выше по лесенке нот плача, пока не сорвался: «Ведь я же тебе говорила: оставь их в покое», — кричала она так, словно теперь все кончено. В ответ раздался удар, звонкий, как пощечина, и было в нем нечто освобождающее. Но она, подобно человеку, убежденному в своей правоте и не желающему с ней расставаться, опять принялась за свое, беря тон все выше и выше, пока голос не задребезжал на самой высокой ноте, раздирая душу. Крестный грозил ей, передразнивал ее, однако в его словах, хоть я и не мог их разобрать, мне слышался страх перед некой непоправимой ошибкой, что вот-вот совершится или сию минуту была совершена. Слышалось громыхание тарелок — «Значит, мыли посуду», — подумал я, стискивая зубы, но в то же время ничему не противясь. «Прекрати! Прекрати!» — орала крестная, теперь уже, похоже, доведенная до последней крайности. «А вот не прекращу!» — яростно упирался крестный. И он, будто желая изничтожить судьбу словами, на каждом из которых делал резкое ударение (впечатление было такое, будто он этими словами погоняет женщину, заставляет ее бежать по комнате), треснул кулаком по столу. Стаканы зазвенели один о другой, что-то — радио? — нет, метла — грохнулось на пол. Рукоять метлы наполовину высунулась в неприкрытую дверь. Вода шипела на горячей плите, и казалось, конца этому не будет. «Пусти меня!» — визжала женщина, и воздух вырывался из нее с такой силой, будто она слишком долго удерживала его в легких. Потом она жалобно застонала, а крестный бесстыдно смеялся над ней. Постепенно ее стоны сменились тяжелым, ускоренным дыханием, а потом — причмокиванием.