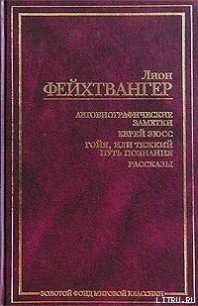Исповедь еврея - Мелихов Александр Мотельевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Ни в одной из столь вознесенных на вершину уборных нет ни единого крючка – хорошо, если висит проволока. Только держись покрепче, если найдешь местечко, где пристроиться: пол усеян грудами крупного артиллерийского пороха – перекаленными экскрементами. Это летом. Зимой же – нагроможденное многоцветье обледенелых бугров, а если засидишься (хотя мороз не даст: под тридцать градусов – это норма), рискуешь засесть до весны. Снег все заносит на глазах, за малейшим бугорком наметает длиннющую снеговую… словно бы тень, пытающуюся подняться с земли. К каждому столбику она поднимается перепонкой, превращая его в солнечные часы из снега. Хибары занесены до крыш – вогнутые гиперболы взмывают к их краям, как на монументе покорителям Космоса.
Но в Эдеме все становится источником счастья: прорубленные фанерными лопатами многослойные снеговые коридоры, сквозь которые нужно было шествовать к саше, муравьиные лабиринты, которыми мы, пацаны, истачивали толщу слежавшегося снега (а в центре – зальчик с коптилкой), обледенелая, словно бы отлитая из матового стекла, крышка у водовоза. Весной – обезумевшие ручьи с сопок, и нужно было с маниакальной торопливостью возводить запруду за запрудой, пускать кораблики и уноситься с ними воображением в лакированные тоннели и гроты, которые затмили бы своей грозной красой все чудеса природы, будь мы раз в пятьсот меньше ростом.
Весною всеми овладевал поджигательский зуд – ходили палить старую траву в степи, бог знает зачем, как делается все в Эдеме, – только потому, что это делают все: даже какая-нибудь тихоня, отличница и звеньевая, видишь, присела на корточки и чиркает стащенными у папы спичками. И добивались-таки своего – разворачивалось ночами зарево вполнеба!
Клянусь, я не знаю места прекраснее! И когда я, изгнанник и отщепенец, безнадежно перебираю и осыпаю поцелуями камешек за камешком, льдинку за льдинкой, порошинку за порошинкой в горделивых, открытых на все четыре стороны света сортирах, мне хочется плакать от счастья и боли, но – слезы иссякли во мне, любой мало-мальски чувствительный кот сумел бы наплакать щедрей…
Отец, подлетая и плюхаясь обратно на сплющенное сиденье в провонявшей дрянным бензином полуторке, был склонен плакать еще меньше. По дороге (железной, беспощадной дороге) он подрабатывал грузчиком, давая такой класс, что ему немедленно предлагали койку и пайку, но государственный перст вел его к маме: Советская власть готовила мне сомнительный дар – жизнь.
Отец вынашивал хитроумный еврейский умысел пристроиться грузчиком в Потребсоюз, но всякий раз на его пути становилось оно: облоно, районо, гороно, – и он краснел перед укоризненной вывеской, хотя, уведенный из школы под конвоем на глазах своих учеников, он уже почитал себя свободным от химеры, именуемой совестью. Однако после первой же искательной просьбы затюканной педагогической полуначальницы: «А вы нам не поможете?» – он немедленно вернулся в прежнее обличье, вновь сделавшись тем, кем он и был, – человеком, рожденным помогать: просительная, огорченная интонация приводила его в движение так же неотразимо, как боевая труба старого полкового одра.
Престарелые учителки и через двадцать лет не могли вспоминать без слез его нескончаемые благодеяния и сверхчеловеческую культурность – в нашем Эдеме грядущие гунны были уже светочами культуры. Он и спину себе свернул на ниве благотворительности, разгружая дрова для одной из бесчисленных ученических матерей-вдов: это тебе не возводить социализм под конвоем за лагерную пайку – бескорыстие противопоказано евреям, – с тех пор у нас не выводилась вонь экзотических растирок: вы подумайте – змеиный яд, какой-то африканский «Бом-бенге»! Вечная же благодарность вдов и сирот помогала как мертвому припарка.
Для русского народа она была просто-таки опасной: великий возрожденный Василий Васильевич Розанов, чье величие не дано постигнуть чужакам, совершенно справедливо указывал, что евреи наиболее опасны тем, что искренне услужливы и привязчивы – оттого каждый из них и находит покровителей (изменников) среди русских.
Поправлюсь насчет гуннов: если лет пятнадцать подряд хватать и глотать любую подвернувшуюся книгу – чего-то все же наберешься: отец был принят как свой в круг захолустной сибирской интеллигенции, среди которой благодаря тюремно-ссыльной политике Советской власти попадались личности нетривиальные: тот окончил Льежский университет, другой играл в шахматы с самим Ласкером, третья с такой прямой спиной садилась на стул, что прочие женщины предпочитали в ее присутствии вовсе не садиться…
Правда, более давнишние ее знакомые где-то сидели очень прочно, по многу лет, – зато среди детей этих отверженцев теперь полно известных литераторов, крупных инженеров, а просто почтенные люди – так все без исключения.
Главное свое богатство – стремления – эти гниды унесли с собой в ссылку и передали детям без уплаты налогов на наследство.
Отца пристроили на жительство к местному профсоюзному боссику Дерюченко, из-за его однорукости считавшемуся героем Гражданской войны. Отец взвозил для супругов Дерюченко воду в бочке на обледенелую гору, задавал корму коровам и свиньям, у которых ему позволялось почерпнуть несколько мелких картошек в мундире, таскал дрова и затапливал печь – не в своей комнате, разумеется. За это ему была предоставлена дверь, уложенная на два ящика и укрытая двумя мешками с соломой и брошенным сверху кожухом, который воспрещалось выносить из помещения. Одноразовые же услуги – перевезти, скажем, из степи под покровом ночи (от завистливых глаз подальше) стог сена и едва при этом не замерзнуть – специально не оговаривались.
О каком же антисемитизме в народе может идти речь, если в скором времени заведующая районо Валентина Николаевна Корзун, приглядевшись, выдала отцу талон на носки – до этого он обматывал ноги в брезентовых тапочках каким-то тряпьем. Более того, через какое-то время из трех человек, знавших немецкий язык, райком доверил именно ему перевести для актива засланные ради ознакомления с идеями врага фашистские пропагандистские брошюры. Все, что касалось евреев в этих брошюрах, встречало у актива полное одобрение. Содержание этих же брошюр отцу было приятно снова встретить – воспоминания молодости! – почти без изменений в перестроечных публикациях журналов «Их современник» и «Старая гвардия».
Дерюченки тоже давали ему возможность своеобразно блюсти день субботний: вечером, вместе с заведующим Продснабом усаживаясь за стол с водкой, с неописуемой и неуписуемой жратвой, они заодно приглашали и трудолюбивого квартиранта. Пока он церемонно отщипывал того-сего, хозяева жизни жрали, пили, а затем пускались в безумный пляс – словно лед старались проколотить то одним, то другим каблуком,– а затем валились и засыпали где попало.
И тут начиналась большая жратва! Объедков для свиней отец оставлял ровно столько же, сколько в будние дни они оставляли ему. Даже в понедельник он еще похвалялся в учительской набитым животом. Все хохотали, и только юная преподавательница физики, математики и астрономии с невыразимой гадливостью взывала к его достоинству: «Ну как, как вы можете такое рассказывать?!»
Это была моя мама. Когда, забравшись на стремянку, она поправляла портрет Вождя, ему бросились в глаза ее забинтованные из-за голодных чирьев лодыжки. «Как у лошади Ворошилова», – подумал он. Зато в колхозе на шефском – «Все для фронта!» – сенокосе она лучше всех управлялась с вилами, а он вообще творил геркулесовы подвиги, именно там заложив фундамент своей педагогической славы.
Тогдашние ученики еще лет сорок писали ему и ездили к нему (в Ясную Поляну, едва не написалось с разбега). Зря мы религию уничтожили, делились они своими прозрениями, а кое-кто договаривался до того, что мы построили какой-то не такой социализм. Отец для виду возражал, а сам тайно радовался поздним всходам своих семян.
Лучшими работниками для фронта, для победы оказались дети раскулаченных – «джюкояков», переселенных к нам откуда-то из Центральной России. Слово «джюкояк» означало, как будто, «деревянная нога» – в наших краях до тех пор не видели лаптей. Начавши с землянок – крытых жердями ям (за это их край именовался Копаем), джюкояки через десять лет уже жили в хороших домах и учили детей в институтах. Главного богатства – стремлений – их тоже лишить не смогли, – вечная справедливость достижима только через убийство.