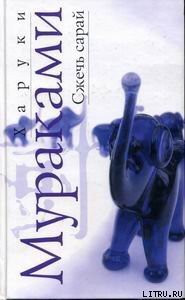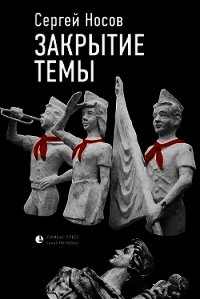Грачи улетели - Носов Сергей Анатольевич (книга регистрации txt) 📗
– А ты говоришь, – сказал Борис Петрович, хотя Дядя Тепа молчал.
Спасатели стремительно раздели мужика, завернули в одеяло с головой, так что выглядывало лишь одно лицо, и засунули в теплоизоляционный мешок. Теперь, прислоненный к гранитному парапету, мужик напоминал куколку гигантского насекомого. Зевак почти не было. Борис Петрович и Дядя Тепа прошли медленно мимо. Откуда-то возникший фотограф беспрерывно снимал мужика. Бомж, разумеется. Бородатый. Лицо унылое. Менты снисходительно улыбались.
– Ну-ну, – сказал Дядя Тепа.
Да ведь он ему просто завидует! – подумал Борис Петрович.
– Ладно!
С гордым видом пошел Дядя Тепа вдоль Фонтанки к бывшему Дворцу пионеров, где у него была еще с кем-то назначена встреча.
Борис Петрович перешел улицу.
В середине садика-пятачка, прозванного Ватрушкой, стоял короб-футляр, в нем скрывался от глаз горожан бюст Ломоносова. Реставрация к юбилею города. Надпись – на чьи деньги. Реставрировало Ломоносова то же политическое движение, что и содержало в зоопарке, если память Борису Петровичу не изменила, не то тюленя, не то жирафа. Жив ли жираф-тюлень? А вот голуби: их почти не осталось в городе Петербурге (вытеснены воронами), – на футляре же этом сразу три особи. Впрочем, ничего странного, здесь и раньше на бюсте всегда голубь сидел. Странно вот что: почему на новые памятники не садятся голуби?
С мыслями о монументах Борис Петрович дошел до Садовой. На его памяти никогда еще город так не перекапывали. Вместо улицы – ров. Залить водой – будет тот же канал Грибоедова. Только набережных не будет, вода подступит к стенам домов. А и не надо, так лучше. Борис Петрович представляет Венецию: дома из воды вырастают. На Сенной площади замышляется что-то. Почему бы не соорудить здесь бассейн под открытым небом? И назвать “Юбилейный”? Нет, лучше – “Москва”.
Спускаясь под землю, думал Борис Петрович о собственной жизни. Много ли было в ней артистического, художественного? А вдруг он взаправду художником был? Был да забыл. Или не понял. Иногда он себе позволяет художества, объяснить которые сам не может. Тут бы для интерпретаций арт-критика, да половчее. Одна поездка в Германию чего стоит! Или вот, например, как-то раз он своей же супруги парадный фетровый берет с кокардой (ну не нравится ему эта серая форма!..) снес в мешке на помойку, а потом сделал вид, что не знает, куда берет подевался… С точки зрения здравого смысла – не объяснить. Все равно ей дали другой.
А когда он ехал в метро, у него в мозгах словно вспышка была.
Из-под прямоугольника оргстекла, где когда-то был план метрополитена, теперь обращался к пассажирам плакатик, призывающий немедленно исполнить гражданский долг – получить паспорт нового образца (кампания по обмену паспортов уже завершалась). Выглядело это так: под соответствующим лозунгом стояли (вернее, шагали вперед) молодой человек и девушка, жизнерадостные, жизнелюбивые, они так широко и белозубо улыбались, словно это была реклама не социальная, а зубной пасты. Оба – каждый свой – поднимали над головами – дубликатом бесценного груза – новый, российский, орластый – и как бы мыслили по канону: “Смотрите, завидуйте, я гражданин!..” На молодом человеке была белая рубашка и летние брюки, а на девушке – миниатюрная кофточка-топ на тонюсеньких лямочках и совсем уже мини, почти пляжная мини-юбочка. Изящный живот девушки был по-хорошему обнажен. Роман Петрович, когда видел эту картинку, каждый раз задавался вопросом: ну вот он – он, допустим, сейчас уберет паспорт в карман брюк, а она? Куда она денет паспорт? Отдаст ему на хранение, товарищу по рекламе? Или так и будет ходить, раскованная, счастливая, с российским паспортом в руке?
Роман Петрович и на этот раз подумал бы о том же, но не успел подумать о том же, – потому что, взглянув на красавицу, получил внезапно как по мозгам: сон ему вспомнился вдруг. Не обязательно этой ночью приснилось, может, и раньше – он не помнил когда. Но вспомнил сейчас.
Роман Петрович был на горе, стало быть, был он, вероятно, в Германии, потому что где ж ему быть еще на горе, как не в Германии, где он действительно был девять лет назад на горе; то же небо, такой же простор, хотя все другое, другое, не очень германское… Был в Германии снег тогда на горе, а здесь было лето, было тепло, и вот еще оборотка: вместо Тепина и Щукина, как тогда на горе, вместо этих двух – была на горе, самое главное… только тут ему не вспомнить ни имени, ни лица, и даже не вспомнить сейчас, помнил ли он, кто такая, во сне, когда спал, отличал ли имя ее от иных имен, лицо от иных лиц… немка вроде бы, но не Катрин, моложе Катрин… а с чего бы Катрин? при чем тут Катрин? он другой, он не Тепин, был бы Тепин, была бы Катрин… нет, совсем не Катрин, не Катрин никакая… Каким-то никаким остатком себя, не переместившимся на эту гору, а продолжавшим головой лежать на подушке, он тогда в своем собственном сне с тягостным ощущением тщеты силился понять, истолковать длящийся этот сон, сокрушаясь завитком интеллекта: фрейд! сколько фрейда! фрейдятина прет!.. И не мог поймать ее голые ноги, колени, опять же остатками недоуснувшего сознания понимая, что ноги ее, как и целое все, менее реальны, даже во сне, чем вырастающее в нем, в Чибиреве, и рвущееся наружу чудовище, преисполненное ревности, страсти, обиды и отчаянного желания что-нибудь сотворить. Без акцента, на родном его языке (он вспомнил сейчас): “А иди ты на хер, художник!” – “Дура, дура, мы ж на краю!..” Или было “в раю”? “На краю” он сказал или “в раю”? Край или рай?.. Но тогда почему ощущение ада?
Все это вспоминалось ему секунду-другую, пока он глядел на картинку-агитку. Лоб его как-то некстати оросился холодным потом. Борис Петрович спрашивал себя: с чего бы? Он не верил в пророческие сны, иначе спросил бы: к чему бы?
Когда двери открылись, он уже не был уверен, что это не какое-то дежа-вю, а действительно вспомнился сон, почему-то зачем-то приснившийся.
Разговор об искусстве, как ни странно, продолжился дома. Борис Петрович, возвратясь, нашел жену озабоченной чем-то. Она стругала в кухонном комбайне морковь для борща. Он вошел – выключила агрегат.
– Понимаешь, я купила колготки, оказалось, что ноги развернуты в разные стороны.
– Такое бывает?
– Нет. Никогда.
– Может быть, для инвалидов?
– Шут их знает. Пойду возвращать.
С этими словами Елена Григорьевна села на стул, вытерла руки полотенцем.
– Боря, объясни мне, пожалуйста, как это понимать… Я прочитала статью… ну ту, которую ты мне дал… об этих… как их там… хе… ху…
– Хеленуктах, – сказал Борис Петрович, сам поражаясь тому, что запомнил с первого раза такое диковинное название.
– Да, – сказала жена, – что это? Что это все означает?
– Означаемое, – Борис Петрович ответил. – Некое означаемое.
– А нельзя ль пояснее?
– Ну… как тебе объяснить… там же написано… культурное движение в конце шестидесятых…. Андеграунд.
– Боря, они стреляли друг в друга из водяных пистолетиков.
– Я читал. Как бы что ли дуэль.
– Резались в настольный хоккей.
– Ну да, тебя что-то смущает?
– Взрослые люди…
– В том-то и дело, вот в чем изюминка!
– И об этом пишут целую диссертацию?!.
– Ну а почему бы не исследовать, Лен? Раз было такое явление, нестандартное, оригинальное…
– В чем же оригинальность? В том, что они пускали ложные слухи?
– Какие слухи?
– Подходили к очереди и говорили, что пропала крупа в городе. И что можно ее купить лишь в одном магазине, в другой части города. Ты знаешь, как это называется?
– Видишь ли, ты смотришь на вещи однобоко, а ты взгляни на это иначе… Это ведь с другой стороны как бы художественная практика.
– Разыгрывали скандалы в очередях…
– Видишь ли, это не просто эксцессы, это позиция как бы. Вполне осознанная. Вспомни, какое время было.
– При чем тут время, Боря?
– Просто с позиции времени на многое мы смотрим иначе.
– Да как же так, Боря? Они приходили в кино специально поглумиться над советскими фильмами… Они и в театр ходили, чтобы поглумиться.