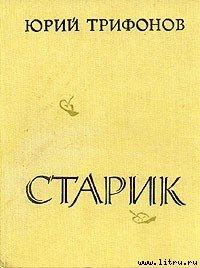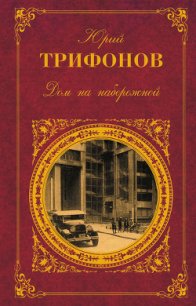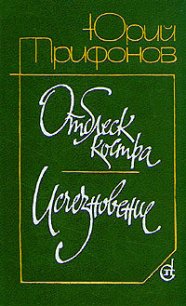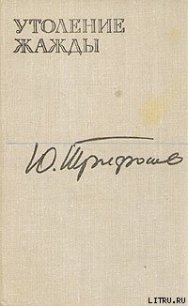Время и место - Трифонов Юрий Валентинович (мир бесплатных книг .txt) 📗
– А их нету.
– У меня ключ, – сказал Боря жестким голосом. Женщина качала головой, глядя на прыгавших через борт. Пошли на второй этаж. Левочка нес лямки. Антипов видел такие лямки и сам ими пользовался на заводе, когда таскали станки. Ему хотелось выглядеть бывалым человеком и здоровяком, особенно в глазах Бори. Поэтому он рвался вперед, скорее в дело, и шел за Борей следом, а Левочка и Мирон шли сзади.
– Ну и втравил ты меня... – бурчал Мирон в спину Антипова, поднимаясь по лестнице. – И что я за обормот? Мне это нужно? А тебе нужно?
Боря возился с ключом в дверях.
– Любишь работать на дядю? – шептал Мирон.
– Почему на дядю?
– Абсолютно на дядю.
– Заткнись...
Ключ не открывал. Боря ругался шепотом:
– Суки, замок заменили... А ну! – Отойдя шага на два, кинулся мощным носорожьим корпусом в дверь, она треснула и распалась.
В угловой комнате стоял запах гнилой воды, нафталина, смерти. На полу валялось много бумаг, какие-то веревки, пуговицы, фотографии. Оторвавшийся от проволочной ветки розовый бумажный цветок. Тряпка висела на зеркале. Забыли снять. Поднятый на попа, стоял располосованный матрац с клочьями ваты. После смерти человека издыхали вещи. Пианино, за которым приехали, было отодвинуто от стены – за ним искали. Оно было убогого вида, серо-черное от пыли. Подняли, потащили. Антипов первый схватил лямки и пошел передом. Боря сзади, Левочке и Мирону делать было нечего. Они подмостились помогать на лестнице.
– Я не жлоб... За Наташку обидно... – хрипел Боря. – Сколько она из-за старухи времени отняла у себя, у меня... А у самой ни шиша нет...
– Женщину надо обеспечивать, – сказал Мирон.
– Верно, – согласился Боря. – Вот и берем законное. Чтоб не пропадало.
Белесый парень в телогрейке, такой же мазутной, как у Бори, разговаривал с шофером. Рядом стоял старик с пегой кривой бородой, а поодаль кучкою жались к стене женщины. Белесый парень оглянулся и сказал:
– Мы тебе макитру пробьем. Артист хренов.
– Иди, иди, – ответил Боря.
Старик с кривой бородой вдруг закричал визгливо:
– Самоуправничать! Не дозволяю!
– Тихо! – крикнул Мирон и погрозил старику пальцем. Шофер вылез из кабины, стали впятером громоздить пианино в кузов. Толкали его по доскам. Валил сырой снег. Женщины что-то кричали. Мирон и Левочка кричали в ответ. Антипову было не совсем ясно: хорошо он делает или нет? Зачем это нужно? Одно понимал – она попросила, и он старался сделать как можно лучше. Было когда-то в лесу – ушел в чащу без дороги, все дальше, дальше, в буреломы, в густоту, и вот уже все кругом незнакомо и неизвестно зачем. В комнате на Ленивке Наташа плакала, обнимая Борю. Антипов и Мирон напились водки. Левочка с Борей ругался, требовал, чтобы тот вернул какие-то книги, Боря говорил: «Отстань, шизофреник!» Ничего не помня, кроме того, что Наташа целовала его, прощаясь, Антипов вышел на угольный двор, сел на что-то деревянное и мокрое. Давила немыслимая усталость. Не знал, как от этой усталости спастись. Ему казалось, что усталость можно разодрать на себе и сбросить, как мокрое платье. В темном провале ворот, что вели на Ленивку, стояли кучкой люди, курили и разговаривали.
Антипов сидел, поеживаясь, норовя стряхнуть мокрое, и ждал, что в дверях подъезда появятся Мирон, Левочка и Боря, но никто не появлялся. Главное, надо было, чтоб появился Мирон. У него спросить: ну что? Какие впечатления, черт побери? И Антипов упорно и терпеливо сидел. Прождав полчаса, он побрел через ворота и оказался на улице, где ему понравилось – тут было хорошо освещено. Витрина магазина сияла огненно. Тут можно было еще немного подождать, и Антипов пересек улицу, на другой стороне удобно сел на какое-то железо. Надо непременно дождаться Мирона. Вода текла вниз к набережной и едва уловимо клокотала. Антипов увидел, как из ворот выбежал человек, за ним бежали трое, остановились перед витриной магазина, стало хорошо видно. Один на голову выше троих. Некоторое время разговаривали, потом маленький вдруг присел за спиной высокого, другой толкнул высокого в грудь, тот упал навзничь. А третий, стоявший сзади, ударил с разбегу и со всей силой упавшего ногой по голове, как бьют по мячу. Трое убежали, один остался лежать. Люди, выходившие из магазина, останавливались возле лежащего, и скоро вокруг него собралась толпа.
Почему-то он оказался в доме на Тверском, там были Мирон и Левочка, громко орали, кипятились, спорили друг с другом, звонили в больницу, ничего не могли толком узнать. Мирон ругался по телефону и кричал, что будет жаловаться. Сусанна вспомнила знакомого, который работал в больнице, нашли телефон, дозвонились. Он там уже не работал. Назвал другую фамилию: доктор Малюткин. Мирон и Левочка пропали. Мирон не успел ничего сказать, кроме загадочного «Твоя кличка – отвались!» Антипов и Сусанна вдвоем продолжали звонить, то занято, то никто не отвечал, наконец ответили: состояние крайней тяжести. Наташа была там, откуда отвечал голос, и Антипову казалось, что он слышит плач. Велели позвонить через три часа. Это значило: в два ночи. Антипов не мог развязать шнурок, дернул, разорвал. Погас свет. Кто-то стучал в дверь. Она помогала рукой и говорила: «Дивно! Дивно!» Было не так, как он предполагал. Почему-то он невероятно потел, дали полотенце, он вытирался. Было стыдно своей худобы, впалого живота. Ровно в два она зажгла ночник с розовато-оранжевым колпаком, зашлепала к столу, стала звонить: без очков он туманно видел, какая она большая, розовато-оранжевая, с просторной спиной, с высокой шеей, как на почтовых марках. Она сидела вполоборота, положив одну розовато-оранжевую ногу на другую, и покачивала ею. Соединили сразу, опять состояние было крайней тяжести. Потом она вышла в коридор, там кто-то ходил, скрипнула дверь, донесся шепот: «Ты приняла лекарство?» Она скоро вернулась: покурили, выпили холодного чаю и погасили свет.
Ранним утром он брел по ветреному сырому бульвару, вдруг будто что-то толкнуло, остановился возле газетной витрины и увидел: «Колышкин – счастливый неудачник». Фельетон Александра Антипова. Прочел весь фельетон от строчки до строчки – все было как он написал. Он обрадовался, но ненадолго. Придя домой, лег на кровать сестры и проспал до вечера.
Борис Георгиевич сказал: это пока еще не рассказ, а оболочка рассказа. Нужно наполнить оболочку содержанием, то есть мотивировками. Тут нет главного: почему, собственно, человеку пробили макитру? Как мы дошли до жизни такой? Кстати, макитра не горшок, а кувшин по-украински. Все имеет причины, чаще невидимые. Но вы должны видеть цепь. Антипов думал: разве кто-нибудь объяснит, почему она появилась и почему исчезла?
Якиманка
1
Ночью разгружали баржу с боеприпасами в речном порту, на рассвете поехали в казарму, тесно сидели на скамейках вдоль бортов в закрытом кузове, одни дымили махрой в потемках, другие дремали, все были измучены ночной работой, и на полпути, когда проезжали Большую Калужскую, я выскочил из автобуса и побежал к Плетневым. Снег нелепо белел на тротуарах, по которым в сторону центра шли люди. Несмотря на рассветный час, людей было много. Поперек улицы красноармейцы вбивали торчком рельсы. Какая-то конная часть двигалась шагом к заставе. Я остановился и смотрел; лошади были крупные, задастые, вышагивали степенно, лица всадников тоже были степенны, застылы и смугловаты от легкого морозца, и на них было выражение сумрачной, тяжелой усталости. В неторопливом цоканье, в сумрачных лицах кавалеристов, в том, как они мерно и плавно покачивались в седлах, была какая-то уверенность прежних, прекрасных времен. Я глядел на них и думал: что же сказать Оле Плетневой т е п е р ь? Когда все исчезло? Когда затуманились дни? Забылись предательства? Оля конечно же совершила предательство. Но это случилось в конце мая. И теперь не имело значения. Все забыто. Нет, не забыто, но не имело значения. Олина мать звонила третьего дня и сказала бабушке, что она в отчаянии, ни на что не может решиться. Надо уезжать, но тащить Елизавету Гавриловну невозможно – совсем почти не двигается, до сих пор нет голоса, объясняются знаками. И сама ни в какую не хочет. Бабушка была на Олину мать сердита, но сказала, что Елизавета Гавриловна не несет ответственности за сомнительное поведение дочери – я смутно догадывался, в чем сомнительность поведения, но уточнять не стал, было неприятно, бог с ними, я их простил, – и сказала, чтоб я сбегал к Плетневым и помог им, если нужно. Вот я и бежал к ним, выпрыгнув из автобуса. Было в запасе часа два. О том, что случилось в конце мая, я старался не думать. Собственно, я об этом забыл. Такая ничтожная чепуха и муть! Очень легко можно подобную чепуху забыть. С Елизаветой Гавриловной бабушка дружила со времен царских ссылок, называла ее Ласиком и говорила, что Ласик – замечательная женщина: в ссылке выучилась гончарному делу и неплохо подрабатывала на цветочных горшках. Ласику было восемьдесят два. Прошлой зимой Ласика разбил паралич. Бабушка первое время навещала ее часто, очень жалела, но потом энтузиазм сострадания стал стихать, и последние полтора месяца она не бывала там вовсе. Однажды обмолвилась: «Плетневы не выдержали испытания». Может быть, и так. Но я старался об этом не думать.