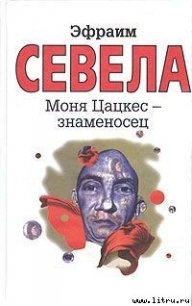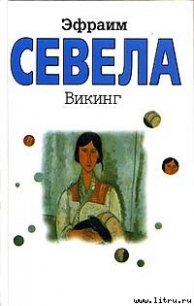Мужской разговор в русской бане - Севела Эфраим (книги бесплатно читать без txt) 📗
— Помоги, — говорит, — мне на плечи мешок взвалить.
Я взял мешок, приподнял и хочу ей на плечи положить. Мешок упал на тропинку. Исчезла девица из-под носа, словно растаяла в кромешной тьме. — Эй, — кричу, — где ты? Возьми мешок!
Ни слова в ответ. Только хруст хвои под ногами где-то в стороне. Я выхватил свой парабеллум, нажал. Осечка. Выстрела не получилось. Я снова закричал. Страх меня охватил. Упустил! За такое по головке не погладят. Можно даже партийный билет на стол. И еще хуже — в тюрьму самому загреметь.
У лейтенанта чуть истерика не сделалась, когда я вернулся один, волоча на спине дурацкий мешок с солью. Он тут же, солдаты — свидетели, составил рапорт, обвинив меня в сотрудничестве с врагом. Всю эту семейку, но уже без дочки, мы доставили на станцию, погрузили в эшелон. Хозяин хутора в последний момент эдак тепло глянул мне в глаза и шепчет тихо, чтобы лейтенант не расслышал:
— Спасибо, добрый человек, за дочку. Значит, есть и среди вас люди.
Ну и чудило! Он-то, дурень, как и наш идиот лейтенант, тоже решил, что я по доброте душевной девицу отпустил на волю. Так, сам того не желая и не ведая, я в святые попал. Ну, что ходить каждому объяснять, что, мол, надула меня, стерва, белокурая бестия, из-под носа убежала, и разгляди я ее в темноте, и не дай пистолет осечки, ухлопал бы, уложил на месте как собаку.
Я это потом долго по всем инстанциям объяснял, доказывал и проклинал эту суку, как самого лютого врага своего. Времена-то какие были! Судьба моя на волоске висела. Уцелел чудом. Сам не знаю как. Отделался строгачом с занесением в личное дело, и долго таскал это клеймо, и бабу-литовку в уме матом обкладывал.
Время — лучший лекарь. Сняли с меня выговор. Пошел на повышение. Из памяти эта история выветрилась. Другие события, похлеще этого, ее затмили. И уж никак не думал, что жизнь снова сведет меня с этой чертовой бабой.
Прошло с тех пор не меньше двух десятков лет. Я на Волге работал. Во вторые секретари обкома вышел. Жена, дети. Два личных секретаря, часовой у входа. Положение. Репутация строгого человека. И все, что полагается партийному боссу в глухой провинции.
Однажды входит в мой кабинет секретарь и докладывает с нехорошей ухмылочкой:
Все утро добивается вас по телефону одна дама. Из Литвы, говорит, приехала. С вами была лично знакома… в молодости.
Я, хоть и столько лет прошло, сразу догадался, что это она, белокурая бестия. Значит, уцелела, стерва. Не подстрелили ее тогда в облавах, не поймали. И видать, покраснел, потому что мой секретарь, ушлый парень, глаза деликатно отвел в сторону.
Мне бы, конечно, для своей безопасности следовало сказать, что не помню я никого из Литвы, и распорядиться не соединять ее со мной. Зачем давать материал для доноса? А вместо этого я велел секретарю соединить меня по телефону с этой… из Литвы и, как услышал ее голос, окончательно узнал и разволновался как мальчишка. Оказывается, она у нас здесь в командировке, остановилась в гостинице и, гуляя вечером, опознала меня на портрете, вывешенном на Центральной площади, где стенд с рожами депутатов Верховного Совета, и стала звонить в обком. Очень она хочет меня повидать. Своего спасителя.
Вот те раз! И она туда же! Как сговорились. Все делают из меня святого. Хоть я такой же подонок, ничем не лучше других был. А все же лестно. Даже мысль шевельнулась: может, память мне изменяет, не могут же все ошибаться?
Короче говоря, условились мы повидаться. Где? Меня в городе каждая собака знает. Зачем давать пищу для пересудов. Позвонил жене, что поздно вернусь. Отпустил машину с шофером, захватил из сейфа бутылочку коньяка да конфет шоколадных и пешком к ней в гостиницу пошел.
Увидал я ее и пожалел, что рискнул на такую авантюру. От той белокурой бестии и следа не осталось. Бабе добрых сорок пять. Вместо белых, как лен, волос, серая пакля, взбитая у парикмахера. Какая-то крупная, угловатая, костлявая. Скосил глаз на ноги — ведь я когда-то облизывался, идя сзади, на ее упругие спортивные икры — жилистые ноги с проступающими гроздьями вен.
Делать нечего. Пришел — бежать поздно. "Распили мы бутылочку. Она мне про себя рассказывает. Как укрывалась у дальних родственников, как до самой смерти Сталина большей частью в погребе отсиживалась, чуть до чахотки не дошла без солнечного света. А потом, слава Богу, все выправилось. Университет кончила, вышла в люди. Имеет дом. Мужа и детей. А родных — никого. Не вернулись из Сибири. Все умерли там. От холода да от недоедания. И отец, и мать. И оба братика.
Мы оба, опьяневшие от коньяка, взгрустнули по этому поводу. Я даже сказал в утешение что-то банальное, вроде: все это — культ личности, но те времена, мол, прошли безвозвратно и больше не будет подобных нарушений социалистической законности. Партия, мол, стоит на страже интересов трудящихся.
А она, дуреха захмелевшая, засверкала подведенными глазками.
Верно, — говорит. — Даже в те страшные годы были настоящие коммунисты, которые берегли честь партии. Вы, например. Вы не только меня спасли от гибели. Благодаря вам я поверила, что есть подлинные коммунисты, и я сама сейчас — член партии.
Господи, что за наваждение! Мне ей в глаза стало стыдно смотреть. А она, подвыпив, только и норовит мне в душу заглянуть.
Помните, говорит с такой пьяной ухмылочкой, — как вы меня вели на соседний хутор за солью. Я эту ночь как сейчас вижу. Темно было, верно?
Верно, — соглашаюсь.
— Я иду и ваш взгляд чувствую на себе. Жгет меня ваш взгляд. На ногах своих чую. Понравились вам мои ноги. Верно?
Верно, — киваю. — Был такой грех. И хотели вы тогда мной обладать как женщиной. Чего сейчас скрывать? Было дело? Было, — поддакиваю.
— Ну, так хоть с опозданием, — говорит, — но вы свое можете получить. Я — ваша!
Я чуть под стол не полез. А куда денешься? Пьяная баба. Захлестнуло ее чувство благодарности, а того, что она уже не товар, понятия не имеет. Решила одарить меня, своего спасителя, кучей костей и сухожилий. У меня жена на десять лет моложе ее. Глотнул я остаток коньяка. Залез в скрипучую кровать и, чтоб не обидеть женщину, принял благодарность, чуть не воя от тоски.
А потом воровски выбирался из гостиницы, чтоб не опознали служители. Во рту у меня было кисло, и, пошарив в карманах пальто, я нашел там конфету и стал жевать, чтоб хоть чем-нибудь перебить этот неприятный привкус.
Астахов отпил глоток шампанского и поставил хрустальный бокал на столик.
— Мне Шурик Колоссовский много раз на ум приходил, когда я, волею судеб и своего служебного положения, вовлекался в литературные дискуссии, которые у нас любят вести, стараясь не замечать, что толчем воду в ступе и повторяем чужие и банальные мысли. Вы помните, каким чудесным рассказчиком был Колоссовский. Как студенты толпились вокруг него, стоило ему только раскрыть рот. И, возможно, помните на нашем курсе одно время толкался грубый, неотесанный малый, то ли из Литвы, то ли из Латвии. Не помню. Одним словом, откуда-то из Прибалтики. Его фамилию я теперь часто встречаю в газетах. Он там у них высоко сидит. Занимается искусством. Руководит. Фамилия его Клюкас. Студентом был серым, тупым. Все больше молчал. Его к нам прислали учиться из армейской контрразведки. А там публика известная.
Я был свидетелем их столкновения. Колоссовского и Клюкаса. Колоссовский жалел его и часто таскал с собой, чтоб у парня поуменьшить комплекс неполноценности. И Клюкас чаще других видел успех Шурика, как его слушают, разинув рты, и проникался к нему тупой ненавистью и завистью.
Однажды мы втроем: Шурик, Клюкас и я — вместе шли на занятия, и, когда пришли, Шурика тут же окружили студенты, и он, по обычаю, стал излагать им красочно и живописно об уличном происшествии, случившемся только что. Слушали его зачарованно. И даже я раскрыл рот от удивления, хоть шел вместе с Шуриком и видел то же самое.
А Клюкас вдруг налился кровью и как заорет:
— Врешь! Вот теперь-то я знаю цену твоим словам! Ничего этого не было, что ты рассказываешь! Я с тобой вместе шел. Меня не проведешь!