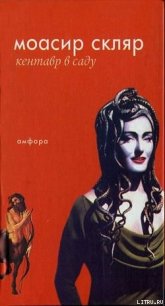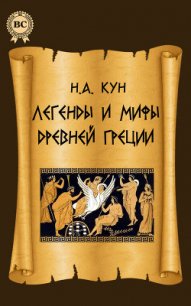Кентавр - Апдайк Джон (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
Справа показалось кладбище; могильные плиты, похожие на тонкие дощечки, торчали над холмиками вкривь и вкось. Потом над деревьями выросла крепкая каменная колокольня файртаунской лютеранской церкви, на миг окунув свой новенький крест в солнечный свет. Мой дед когда-то строил эту церковь — возил на тачке огромные камни по узкому дощатому настилу, который прогибался под ним. Он часто показывал нам, красиво шевеля пальцами, как прогибались доски.
Мы начали спускаться с Файр-хилл, первого из двух холмов, с более пологим и длинным склоном, по дороге на Олинджер и на Олтон. Примерно на полпути вниз деревья расступились и открылся чудесный вид. Передо мной, словно задний план на картине Дюрера, лежала маленькая долина. Господствуя над ней, на кочковатом, в увалах, взгорье, заштрихованном серыми каменными оградами, меж которыми бурыми овцами рассыпались валуны, стоял домик, будто сам собой из земли вырос, а над домиком бутылкой поднималась труба, сложенная из необтесанных камней в один ряд и свежевыбеленная. И над этой ослепительно белой трубой, массивной и выпуклой, вписанной вместе с плоской стеной в холмистую местность, тоненькой струйкой курился дымок, показывавший, что дом обитаем. Именно такой представлялась мне вся округа в те времена, когда дед строил тут церковь.
Отец совсем задвинул подсос. Стрелка указателя температуры словно приросла к крайней левой черте; печка не подавала никаких признаков жизни. Руки отца, управляя машиной, с судорожной быстротой отдергивались от металла и твердой резины.
— Где твои перчатки? — спросил я.
— На заднем сиденье, кажется.
Я обернулся: перчатки, мой рождественский подарок, лежали морщинистыми кожаными ладонями кверху между измятой картой округа и спутанным буксирным тросом. Я заплатил за них без малого девять долларов, выложил все, что успел скопить на обучение в художественной школе, когда по программе сельскохозяйственного клуба вырастил грядку клубники и продал ягоды. Я так истратился на эти перчатки, что едва наскреб маме на книгу, а деду — на носовой платок; мне очень хотелось, чтобы отец хорошо одевался и следил за собой, как отцы моих школьных товарищей. Перчатки пришлись ему впору. В первый день он их надел, потом возил рядом с собой на переднем сиденье, а однажды, когда мы втроем сели впереди, кинул на заднее.
— Почему ты их не носишь? — спросил я его.
Я почти всегда разговаривал с ним тоном обвинителя.
— Они слишком хороши, — сказал он. — Чудесные перчатки, Питер. Я знаю толк в коже. Ты, наверное, отдал за них целое состояние.
— Положим, не так уж много. Но неужели у тебя руки не мерзнут?
— Да, здорово холодно. Крепко принялся за нас дед-мороз.
— Так почему ж тебе не надеть перчатки?
Профиль отца вырисовывался на фоне пятнистой дороги, убегавшей назад. Думая о своем, он сказал:
— Подари мне кто-нибудь такие перчатки в детстве, я заплакал бы, честное слово.
Эти слова камнем легли мне на сердце, а я и без того был подавлен разговором, который подслушал спросонок. Я тогда понял только одно: что у него внутри какая-то хворь, а теперь почему-то вообразил, будто именно поэтому он не носит мои перчатки, и хотел непременно допытаться, в чем дело; но все же я понимал, что он слишком большой и старый, чтобы совершенно измениться и очиститься от скверны, даже ради мамы. Я придвинулся к нему поближе и увидел, как побелела по краям кожа на его руках, сжимавших руль. Руки у него были морщинистые, будто в трещинах, волосы на них чернели, как прихваченная морозом трава. С тыльной стороны их усеивали тусклые коричневые бородавки.
— Руль, наверное, холодный как лед? — спросил я. И голос у меня был точь-в-точь как у мамы, когда она сказала: «Этого нельзя чувствовать».
— По правде говоря, Питер, у меня так зуб болит, что мне не до того.
Это меня удивило и обрадовало: раньше он на зуб не жаловался, может быть, в этом все дело. Я спросил:
— Какой зуб?
— Коренной.
Он причмокнул; щека, порезанная во время бритья, сморщилась. Запекшаяся кровь была совсем черной.
— Надо его вылечить, только и всего.
— Я не знаю, который именно болит. Может, все сразу. Их, все надо повыдергать и вставить искусственные. Пойти к этим олтонским живодерам, которые вырывают зубы и в тот же день вставляют протезы. Прямо в десны.
— Ты это серьезно?
— Еще бы. Ведь это садисты, Питер. Тупоумные садисты.
— Быть не может, — сказал я.
Пока мы спускались с холма, печка оттаяла и теперь заработала; грязный воздух, подогретый в ржавых трубах, обдувал мне ноги. Каждое утро я радовался этому, как спасению. Предвкушая близкий уют, я включил радио. Узкая, как у термометра, шкала засветилась неярким оранжевым светом. Когда лампы нагрелись, хриплые и надтреснутые ночные голоса запели в ясном голубом утре. Волосы у меня на голове зашевелились, мурашки забегали по затылку; так поют негры и батраки на юге — голоса словно с трудом пробирались по мелодии, срываясь, падая, взбираясь на крутизну; и в этом холмистом просторе мне виделась моя родина. В песне была вся Америка: сосны до неба, океаны хлопка, бурные, безбрежные прерии Запада, пронизанные призрачными голосами, надрывными от любви, наполнили затхлую кабину «бьюика». Рекламная передача насмешливо и вкрадчиво баюкала меня, нашептывала про города, где я мечтал побывать, а потом песня зазвучала, будто перестук колес, неотвратимо увлекая певца, как бродягу, все вперед, она захватила и нас с отцом, и мы, неотвратимые, подобно ей, понеслись через горы и равнины нашей многострадальной страны, и нам было тепло, несмотря на лютый мороз. В те времена радио уносило меня в будущее, и я становился всемогущим: в шкафах у меня полным-полно красивой одежды, кожа — гладкая и белая, как молоко, и я, в ореоле богатства и славы, пишу картины, божественно спокойные, как у Вермеера. Я знал, что этот Вермеер был безвестен и беден, но утешался тем, что он жил в отсталые времена. А мое время не отсталое, про это я читал в журналах. Правда, во всем Олтонском округе только мы с мамой, наверное, и знали про Вермеера; но в больших городах, конечно, тысячи людей его знают, и все они богачи. Меня окружают вазы и полированная мебель. На тугой скатерти лежит хлеб, залитый светом, весь в сахарных блестках, как на полотне пуантилиста. За решеткой балкона высится город вечного солнца, Нью-Йорк, мерцая миллионами окон. По комнате с белыми стенами гуляет ветерок, он пахнет гипсом и гвоздикой. В дверях стоит женщина, отражаясь, как в зеркале, в гладких панелях, и смотрит на меня; нижняя губка у нее полная и чуть припухшая, как у девушки в синем тюрбане на картине из Гаагской галереи. Среди всех этих видений, которые песня быстрой кистью набрасывала передо мной, было лишь одно пустое место — картина, которую я так прекрасно, свободно и неповторимо писал. Я не мог увидеть свое произведение; но его бесформенное сияние было в центре всего, словно ядро кометы, в хвосте которой я увлекал отца за собой сквозь наполненное ожиданием пространство нашей поющей страны.
За Галилеей, городком не больше Файртауна, теснившимся вокруг закусочной «Седьмая миля» и шлакоблочного магазина Поттейджера, дорога, как кошка, прижавшая уши, ринулась по прямой — здесь отец всегда гнал машину. За молочной фермой «Трилистник» с ее образцовым коровником, откуда навоз вывозил конвейер, дорога врезалась меж двумя высокими стенами осыпающегося краснозема. Здесь, около кучи камней, ждал попутной машины какой-то человек. Его силуэт был отчетливо виден на фоне глинистого обрыва, и, когда мы, беря подъем, приблизились к нему, я заметил, что башмаки на нем непомерно большие со странно выступающими задниками.
Отец затормозил так резко, как будто увидел знакомого. Шлепая башмаками, тот подбежал к машине. На нем был потертый коричневый костюм в вертикальную белую полоску, которая выглядела нелепо франтоватой. Он прижимал к груди газетный сверток, туго перевязанный шпагатом, как будто это могло его согреть.
Отец, перегнувшись через меня, опустил стекло и крикнул: