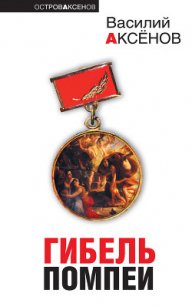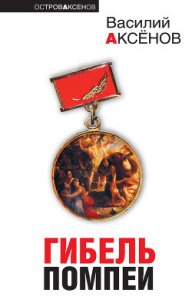Оспожинки - Аксенов Василий Павлович (книги онлайн бесплатно серия .TXT, .FB2) 📗
Тропинка узкая, почти не видная в траве. По заливному лугу. Среди то там, то тут проглядывающего малинника и густого, рослого пырея. Заденешь чуть – рукой или ногой, – сорвётся с него розовым облаком, пульверизатором как будто выпущенным, пыль – все сапоги уже в ней, в этой пыли. Я – нет, а вот мой брат Василий, вдохнув её, чихать бы принялся – представил.
Солнце высокое ещё, сквозь кроны сосен светит мне в глаза – радостно щурюсь.
Недалеко тут – вышел на дорогу.
Где лес не тронут – красота. Душа ликует. Но только подрастёт сосняк, в меру – на беду себе и нам, тем, кто живёт рядом, людям и зверям, – исполнится, и сразу всё здесь исковеркают, исковыряют – уже об этом сокрушаюсь. Точно как в сказке про Лутоню. А мне-то что, если меня уже не будет?.. А вот печалит. И здесь лес, корабельные сосны, валили когда-то. Сначала – заключённые, потом – леспромхозы, которые хоть как-то кто-то контролировал. И делалось это всё тогда не с таким варварским и вражеским остервенением и отношением к природе, как сейчас, – и подлесок не ломали, и дёрн не сдирали, и ягодники старались не стаптывать – о людях вроде даже помнили, пусть хоть и вынужденно, старались меньше навредить им. Бор оставался дальше жить. Нигде, по всем вырубкам, не то что вершинника, но и сучка не было брошено; пни лишь торчали, после которые взрывали – на канифоль. Катались мы, помню, летом по всему чистому, усыпанному только сосновыми шишками и застеленному хвойными иголками бору на мотоциклах; зимой здесь бегали на лыжах. Ну, и охотились. На глухарей. Водилось много их тогда. Редко теперь когда увидишь.
Всё будто плохо.
– Всё – как к концу, – опять невольно повторил за мамой словно. Она добавила бы только: «Как и обещано… По всем приметам».
Не добавляю.
Набрал, поверх сложенной в него рыбы, полный рюкзак боровых рыжиков, по-нашему боровиков, – не помешали им и заморозки – народились. Небольшие, ядрёные. Маме на зиму – ей хватит. Скажу: «Василию не отдавай». Да где ж утерпит – всё раздарит; мне, мол, одной-то ни к чему. Скажу Василию – чтобы не зарился. Но он грибник – себя, наверное, уже и обеспечил – не прозевает. «Зимой, с картошкой, мило дело… А после бани, да под водочку. Найди такого, кто откажется». Ну, где искать, возможно, и найдёшь. Но здесь-то – прав Василий – вряд ли.
У нас – в Ялани или в Сретенске, по крайней мере, – и белые грибы называют не белыми, а боровиками, и разберись, речь о каких. Чаще встречаешь их в бору, и те и эти – поэтому, может. У нас и кислица – не красная смородина. Ну, и пимы у нас – не валенки. И много что у нас не так. И называют нас чалдонами. Хоть и обычные мы – русские. Я своим детям объясняю это в шутку так: с Дона причалили, мол, наши прадеды. Они смеются: «Папа – чалдон, а мы – долдоны». Ну, что долдоны, это точно. Вспомнил детей и понял, что соскучился, хоть и не видел их всего лишь двое суток.
Поел брусники и черники. Куст крупной, как виноград, голубики в бейсболку обобрал, иду, ем ягоду – забыл про пряники.
Волчий бор – сам бор и место, где когда-то размещался одноимённый посёлок, – только миновал, в низину, с частым, но мелким, молодым ещё, пихтачом и редким, но рослым осинником, спустился и вижу:
Возле огромной, мутной, с мазутными на ней радужными разводами, с плавающими в ней пачками из-под сигарет, пустыми пластиковыми, пивными в основном, бутылками, коробками из-под сока, остатками картонных ящиков и обломками досок, лужи валяется красно-синий, грязью заляпанный велосипед.
Цепь со звёздочки слетела.
Вблизи от лужи, на обочине дороги, в черничнике, стоит женщина. Лет тридцати пяти или сорока. В распахнутой белой парусиновой куртке, в небесного цвета футболке и в светло-серых, до колен закатанных, штанах свободного покроя. Пучком сорванной травы, наклонившись, вытирает со штанины грязь – но лишь размазывает, вижу.
– Здравствуйте, – говорю.
– Здравствуйте, – отвечает, улыбается.
– Помощь нужна? – спрашиваю.
– Если вы не торопитесь…
– Не тороплюсь… Тут у меня машина, – говорю. – Недалеко.
– А, это ваша… Дверь распахнутая.
– Да, – говорю, – моя. Я так оставил специально, чтобы в салоне душно после не было… Вот до неё дойдём, а там посмотрим.
– Я там была уже, вот только что, – говорит женщина. – Мне в Волчий Бор попасть необходимо. Я далеко?..
– Это туда, в другую сторону… Иду оттуда. Нет, – говорю, – не далеко. Вас проводить?
– Не откажусь… Если вам время позволяет.
– А я его и спрашивать не стану.
– Буду вам очень благодарна.
– Да мне не трудно… Не за что…
– Я уж чуть было не отчаялась…
– Потерпит время, – говорю.
Приставил сложенный вдвое спиннинг к толстой, раскидистой, корявой – только поэтому и сохранившейся – сосне, рюкзак тяжёлый с себя снял, его устроил возле комля. Жду. Слушаю заодно, как:
Шелестит белка на сосне, перебегая цепко по стволу, сердито цокает – мы ей мешаем: шишки ей шелушить спокойно не даём.
– Я готова, – говорит женщина. Упруго выпрямилась, как пружина. Стройная. Как будто радостное что-то только что мне сообщила – улыбается. Красивый рот. Глаза лучатся – как изнутри будто подсветились, включились – необычно. Шагнув к дороге, пучок травы, которым чистила штаны, в широкую, чуть ли не в метр, колею, водой заполненную, бросила. – Только кроссовки вот ещё помою.
– Можно не мыть, ещё испачкаете.
– В таких идти… Нет, я помою. Склонившись и зачерпывая из колеи ладонью воду, кроссовки стала обливать; то тот, то этот трёт рукою. Помыла будто.
Встала во весь рост, вытянула двумя пальцами из кармана куртки, ухватив его за самый кончик, носовой платок, руки им вытирает. Смотрит на меня.
– Их не отмоешь… Были не такие.
– И я об этом же, примерно.
– И ноги надо бы помыть.
– В реке уж лучше.
– Да. Согласна. А далеко?
– Куда идём… Она там рядом.
– Кемь?
– Да. Кемь.
Косынка на голове женщины коричневая, однотонная. Волосы, убранные под затылком в узел, – светло-русые. Из-под косынки выбились – смотреть мешают. Отдуть их пробует, стесняясь, но безуспешно. За ухо убрала прядь эту внешней стороной ладони – пока не падает. Глаза – как на иконе византийской у святых – формы такой же; и разрез, и выражение; и голубые, как её футболка. На прямом, ладненьком, как сказал бы мой отец, тонком, с небольшой горбинкой носу и под глазами – мелкие-мелкие веснушки – как будто рядом кто-то краску с кисти колонковой стряхивал неосторожно, их на лицо ей и набрызгало – как точки.
Спрятала обратно в карман куртки носовой платок. И говорит:
– Можно идти.
Подняла с земли тёмно-зелёную брезентовую сумку на длинном ремне, повесила её себе на правое плечо.
– Пойдёмте, – говорю. И предлагаю: – Давайте сумку, понесу.
– Нет, она лёгкая. Спасибо… А велосипед? – не оглядываясь на него, спрашивает.
– Пусть остаётся пока здесь.
– Пусть остаётся.
Идём. Я с одной стороны глубокой колеи, по обочине, переступая или обходя кучи сучьев, женщина – с другой, между колеями. В бор вошли, и колеи исчезли. Грунт здесь такой твёрдый, что даже лесовозы и трелёвочники не смогли его прорезать; лишь молодняк лесной рядом с дорогой ими смят; да комли чудом оставшихся, забракованных почему-то заготовителями, взрослых деревьев все ободраны. Ну – лесосека, будь она неладна.
Стыдно мне стало вдруг за это безобразие, не знаю, как и оправдаться.
– Вы за грибами сюда ехали? – зачем-то спрашиваю.
– Нет, – отвечает женщина. – Не за грибами.
– А за черникой – поздно, за брусникой – рано… – так говорю, как будто отвлекаю.
– Не за брусникой, – улыбается.
Слева, за мелким, совсем уже жёлтым березняком, с ярко белеющими тонкими стволами, и за не видной с дороги старицей, заросшей по берегам редким ельником и низкорослым тальником, блеснула Кемь.
– Меня зовут Иваном.
– Очень приятно. А я – Маша.
– Мария, значит.
– Нет, нет, нет, – заторопилась вдруг, и быстро глянув в мою сторону. – Я – Маша. Мария – это слишком важно и значительно… А там река?