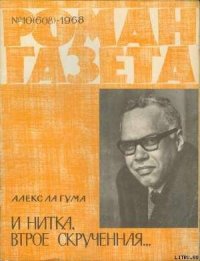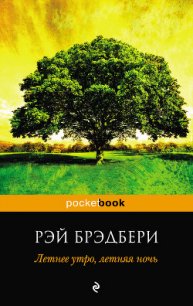В конце сезона туманов - Ла Гума Алекс (версия книг TXT) 📗
— Смотри не навернись, приятель, — ухмыльнулся кто-то.
Автобус притормозил, и слегка взъерошенный Бейкс спрыгнул со ступеньки. Он постоял на обочине, пропустил машины, потом стремглав пересек шоссе. На поросшем травой бугре он остановился, поглядел вслед автобусу. Он увидел освещенные задние окна и красные габаритные огни, тающие в темной дали. «Там Фрэнсис, — пронеслось в голове, — старушка моя. Фрэнси, Фрэнси…» Ведь он почти забыл о ней. Любовь и грусть, смешавшись, захлестнули его. «На кой черт я все это делаю? — думал он, бредя по утоптанной траве, — на кой черт?» Потом с легким сожалением прогнал навязчивую мысль — так расстаются с любимым, затасканным костюмом — и зашагал по дороге с чемоданчиком, набитым нелегальными листовками, думая уже о том, как распространить их, и о предстоящей встрече с Хейзелом.
VI
Хейзел — это подпольная кличка Элиаса Текване. При рождении мать назвала его в честь прадеда. Через несколько лет по проселку, мимо старого эвкалипта, на котором дети устроили качели, она отвела сына в миссию учиться грамоте. Миссионеру не давались туземные имена, и он сказал:
— Наречем его добрым библейским именем Элиас.
Элиас ходил в миссионерскую школу урывками, когда не пас вместе с соседней ребятней коров на поросшем кустарником склоне позади дома. Стеречь скот считалось мужским делом, а женщины работали в поле.
Зимою земля была сухой и пыльной. Коровы жевали валявшиеся на полях кукурузные стебли, поднимая копытами пыль. Ветер обрывал со стеблей засохшие листья, они свистя носились в воздухе, царапая лицо и ноги, впиваясь в кожу.
Дожди в их краю выпадали в октябре и ноябре. К этому времени в деревнях готовили плуги. Пахота была лучшей порой года. Весеннее солнышко вставало рано, желтый свет измятой простыней падал на землю. Едва рассветет, как все вокруг оживало: скрипели воловьи упряжки, щелкали кнутами пастухи, слышался птичий и детский гомон, перекликались взрослые.
В жатву, прежде чем солнце зайдет за острые вершины гор, женщины уходили вереницей в город. Они несли зерно в жестяных банках на голове или в заплечных мешках. На вырученные деньга покупали сахар, соль, чай, платили налоги. Когда случался неурожай, приходилось брать в долг у белого лавочника.
А какие там бывали закаты! Небо на западе становилось желтым, оранжевым, зеленым, редкие облака походили на гирлянды из рыхлой ваты. Деревенские хижины лепились по склонам, как раскиданные охряные игрушки на потертом ковре. Посмотришь со стороны — красиво, как на картинке.
Элиас не помнил отца, знал о нем лишь со слов матери. Мальчику так и не суждено было увидеть его живым. Однажды пришла весть, что Текване погиб в шахте неподалеку от Иоганнесбурга. Он был заживо погребен на глубине нескольких сотен футов, глубже самых далеких предков. Мать стала ходить на почту за «пенсией». Шахта выплачивала ей за мужа по два фунта в месяц.
Элиасу легко давалось учение. В миссионерской школе, сколоченной из гофрированного железа, он научился правильно писать и читать. Если выдавалась свободная от занятий или домашних дел минутка, Элиас играл с деревенскими ребятишками в тени старого эвкалипта, раскачивался на веревке, привязанной к нижнему суку. А иногда они ходили через кустарник, по сыпучей, выветренной, скрипящей под ногами земле к железнодорожному полотну.
Вскоре мальчишки знали, когда проходит поезд на север, а когда на юг. Они прибегали на насыпь загодя и, сидя в скудной тени колючего кустарника, ждали появления поезда. Ветки тянулись к ним старческими руками. Наконец вдали раздавался гудок, будто сова ухала за холмами, похожими на тонкую девичью фигурку. Можно было различить худенькие плечи, едва наметившуюся грудь, впалый живот и костлявые коленки под невзрачным покрывалом из чахлого кустарника.
Отдуваясь и пыхтя, как старый миссионер, поезд взбирался на подъем. Первым показывался паровоз, продолговатый, тяжелый, в высокой шапке белого дыма, с большими чугунными колесами. Он лязгал и плевался паром. В кабине два амабулу, белых человека с перепачканными гарью лицами, утирали пот шейными платками. Грохочущее, огнедышащее чудище тащило длинную череду вагонов, мелькали одинаковые окна, стучали буфера.
Дети бежали за поездом, кричали, махали руками. Пассажиры глядели на засохшие деревья, потрескавшиеся лощины, врезавшиеся в землю желтыми ранами, и зубчатую гряду на краю плоского синего неба. Из окон выбрасывали остатки еды, и, когда поезд уносился дальше по спекшейся от солнца земле, мальчишки бежали подбирать объедки: надкусанные бутерброды, обломки печенья, недоглоданные куриные косточки, липкие ломти пирога, выжатые апельсины, недоеденные конфеты.
Вернувшись как-то с почты, мать сказала Элиасу, что «пенсия» кончилась. Матери объявили, что ей полагалось всего сорок фунтов за мужа и что в прошлом месяце она получила последние два. Ей, однако, не сказали, что вдовам белых шахтеров, погибших вместе с Текване, назначено пожизненное пособие по пятнадцать фунтов в месяц.
Магазин бааса Вассермана был самым крупным в городке. Тут продавалось что угодно, от баночек с кофе до тяжелых промасленных частей автомобилей и сельскохозяйственных машин. На полках — мешки с крупами, сластями, скатанные одеяла, рабочие штаны, грубые башмаки. А рядом пылились хрустальные бокалы и вазы — их никто не покупал. Весь фасад был заклеен рекламой табака и имбирного пива. Вдоль него тянулась веранда, крытая гофрированным железом. Ее полагалось подметать два раза в день — утром и вечером.
Входить в магазин разрешалось только белым. Черным товары отпускались через квадратное отверстие в задней стене. Приходилось ждать, пока хозяева не обслужат белых покупателей. Жена Вассермана вела с ними бесконечные беседы, а кое-кого даже угощала кофе или минеральной водой.
Томясь в очереди, черные покупатели поддразнивали Элиаса, когда тот подметал веранду, называли его «новым хозяином заведения», спрашивали о вчерашней выручке.
— Здравствуй, маленький босс. Много вчера наторговал?
— Денег целая куча! — подмигивал Элиас столпившимся на краю веранды чернокожим.
— Значит, дашь нам сегодня скидку? Сколько возьмешь за мешок муки?
— Ладно, бабушка, бери муку даром.
— Да хранят тебя предки, добрый мальчуган. Только вряд ли Вассерман согласится с тобой, а?
— Вряд ли, бабушка.
— Но тебя-то он небось осыпает золотом. Вон как ты стараешься.
— Я и в доме убираю, и дрова рублю.
— Ай-я-яй! Он тебе должен бриллиантами платить.
— Каждую пятницу я получаю три шиллинга и шесть пенсов.
— Три с половиной шиллинга! О-хо-хо! Целое состояние!
В бывшей конюшне за домом Вассерман, никогда ничего не выбрасывавший, держал ненужный хлам: старые колеса, сломанные матрасные пружины, развалившийся старинный буфет, ржавые консервные банки и пустые бочки из-под бензина, лопату со сломанным черенком, зеркала, будто изъеденные проказой, множество железок и деревяшек непонятного происхождения, ржавевших и пылившихся без дела. Отбросы нескольких поколений.
Роясь в этом хламе, словно вынесенном на берег прибоем, Элиас наткнулся на неровную стопку отсыревших, покрытых плесенью книг. До этого ему попались бронзовая дверная ручка и перочинный нож с поломанным лезвием. Потерев рукоятку, Элиас обнаружил на ней тонкий узор, надпись и мужской профиль. Потом он узнал, что это Пауль Крюгер.
Элиас стал листать липкие страницы книг. Строчки вылиняли и поблекли от сырости, но одну книгу можно было прочесть. В ней попадались картинки — потемневшие гравюры, изображавшие белых всадников в тяжелых шлемах, со щитами и копьями в руках. На других гравюрах белые стреляли из лука. Все это озадачило Элиаса. Он привык думать, что копья, щиты и луки были только у его народа. Старики в деревне рассказывали детям, юношам и девушкам о прошлом, и в этих рассказах слышался топот ног, бряцанье щитов и копий, воинственные кличи. А на картинках в книге точно так же сражались белые люди.