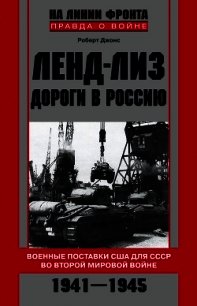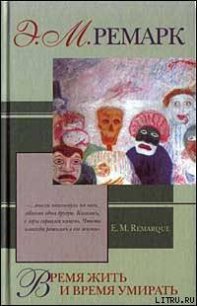Я бросаю оружие - Белов Роберт Петрович (читать бесплатно книги без сокращений txt) 📗
— А у нас так снабжение, я сколько помню, всегда было прекрасное.
— То у вас. Военторговское, да еще в ваших краях. А у нас Урал, коренная Россия; она все на своем горбу вывозит... На твою радость, у меня, по-моему, мельничка кофейная сохранилась, свекровкина еще. Я в ней, помнится, перец молола да корицу иногда. Да, наверное, тоже уж все запахи улетучились...
Я тогда очень удивился, услыхав, что кофе, оказывается, вовсе не оно, а он. Верно, чудеса какие-то! Кофе — он, а почему какао — оно? Впрочем, может статься, что и какао тоже давно уже он, пойди разберись в этих тонкостях сегодня, при голодухе, при карточной-то системе!..
Через несколько дней, не успела Ольга Кузьминична освоить бабушкину мельницу — некогда было, в госпитале шел прием, — Оксана тяжело заболела ангиной. Пока были деньги, ее поили горячим молоком с довоенной содой; за молоком Томка специально бегала на базар, покупала; а на воскресенье обе матери выхлопотали себе выходной, взяли наши с Томкой салазки и еще затемно отправились по деревням выменивать на продукты разное шмотье. Мать сказала мне:
— Тамара с классом уезжает грузить торф для школы. Оксане ни в коем случае нельзя вставать. Понял меня? Ни в коем случае! Ты остаешься за старшего. Следи за Борей. Никуда не ходи. Успеешь, набегаешься, и так целыми днями носишься, как саврас без узды. Выбери чурок посуше, поколи, топи буржуйку, чтобы весь день было тепло. Кипяти воду, почаще пои Оксану, пусть греет горло; сахарин знаешь где. Ксаночка больна очень серьезно, будь внимателен к ней, ухаживай за больной, прояви себя мужчиной.
— Витя и есть наш единственный мужчина, — сказала Ольга Кузьминична.
И, странное дело, я тогда почему-то ничуть не заерепенился, что вот, мол, оставляют с девчонкой, да еще и ухаживай за ней.
Мать, видно, тоже захотела меня улестить, прямо скажем — подмаслить:
— Меду бы Ксаночке хоть немного достать, масла коровьего и обязательно молока. Над горячей картошкой подышит. Делают у вас так, Лель? Вот, знай: первое средство. Картошки надо бы и для всего семейства добыть...
— И еще — просы, — расфантазировался и я. Мне размечталось поесть какой-нибудь особенной каши; тогда уже и гречневая крупа-сечка, из которой варят размазню, была редкостью, даже и перловка-шрапнель тоже; больше имелась в ходу овсянка, с остью пополам или, так прямо его ведь и называют, с охвостьем; между зубами вечно набьется — не проколупаешься, за язык цепляется, будто репей за собачий хвост.
— Как-как ты сказал? — по привычке придираться к моим словам переспросила мать.
— Ну, просу... — поправился я. И помечтать спокойно уж никогда не дадут!
— Достать — проса; так, кажется, Лель? Или просо не склоняется?
— Да хоть как, лишь бы достать, — рассмеялась тетя Леля. Но тут же, конечно, как всегда, извинилась и ответила очень серьезно — такая воспитанная-благородная: — Извини, Машенька, шучу; склоняется, правильно ты сказала.
— Я тоже правильно скажу! — высунулся я опять. — Пшенки, в общем.
Мать рассмеялась:
— Вывернулся? Да и губа у тебя не дура! Авось у маня рука легкая, а у некоторых дамочек глаз красивый, без сглазу... Вот что, Витька, так и учти: если кое-кто будет вести себя молодцом, кое-что перепадет и всяким здоровым лоботрясам — может быть, даже и повкуснее картошки...
Все это подействовало будь здоров! Насчет поесть дела у нас были тогда вовсе хилые. А тут тебе — масло, мед! — одни слова-то чего стоят, вроде уж как позабытые.
— Ур-ра! — немедленно закричал я чуть ли не шире глотки.
— Тише ты! Разбудишь. Это называется — он все уразумел...
Оксана проснулась, когда в окна вовсю уже било солнце. От не очень сырых сосновых дров железная печка гудела, а когда попадались еловые баклашки, начинала весело стрелять. В комнате было тепло, даже, пожалуй, жарко; эти дни и без того топили, не жалея дров, а уж я постарался! Но уличные рамы так и не могли оттаять, разве что перестали быть мохнатыми, и солнышко поблескивало во всех узорах. Если даже я сидел совершенно не двигаясь, искры эти сами по себе вспыхивали и переливались, и на душе у меня было радостно. Раз меня оставили не то за хозяина, не то за хозяйку, уроки я решительно решил не решать. Выходной так выходной! Тем более, что Оксанка-то будет филонить, хорошо ей...
Оксана чуть-чуть, щелочками, приоткрыла глаза и тут же их снова зажмурила. Потом разом села в постели и произнесла с выражением, как пропела:
— Мороз и солнце! День чудесный...
Интересненькое было дельце! — у меня и у самого все утро вертелась на уме та же стиховина. Примерно за год до того. Томка как-то ее зубрила, и пока талдонила по двадцатому разу, заложив уши ладонями, я и то запомнил чуть не все наизусть. Ничем стихотворение мне не нравилось, очень мне годятся всякие взоры-узоры-авроры; просто, когда девчонки что-нибудь зубрят, хочешь не хочешь, а фрицко-немецкие неправильные спряжения запросто выучишь; а тогда как-то пришло на память само собой. Потому, видно, что здорово совпадало. Я даже захотел подхватить, но, вовремя вспомнив, что там дальше идет «друг прелестный» и «пора, красавица», стушевался.
Голос у Оксаны был звонкий, словно горло у нее сроду и не баливало. Как утром сказала Ольга Кузьминична, кризис у нее миновал, и теперь ей нужно было только лишь вылеживаться. То она и улыбалась... Лафа ей! Или слышала утренний разговор, или уж сама так избаловалась, она мне сказала:
— Витя, подай мне, пожалуйста, мой гребешок. Вот там, на полке.
Я ей принес и даже пробурчал, кажется, что-то такое, наподобие: «Биттэ-дриттэ, медхен». Хотя тогда мы учились в четвертом, и никакого немецкого я не знал, и вообще всякими заграмоничными словами не пользовался, потому что не был знаком ни с Володей-студентом, ни с Борисом Савельевичем с рынка. В общем, что-то такое...
Потом она попросила еще и зеркальце.
Я ей его тоже подал.
Оксана стала причесываться. С распущенными волосами я ее никогда не видел или не обращал внимания прежде, а тут вроде как чуть ли не засмотрелся. Оксана, кажется, заметила это и застеснялась не застеснялась, а как-то так, ну — доверчиво, улыбнулась. Мне.
И тут же спросила:
— А умыться...
Не знаю, откуда тогда во мне что и бралось. Из-под самовара, который давно уже стоял как для мебели, я взял посудную полоскательницу, налил горячей воды с печурки, развел ее холодной из ведра, чтобы стала чуть теплой, намотал в ней полотенце, как делала мама, когда я болел корью.
И подал Оксане.
Она по-кошачьи, одной лапкой, умылась. И выжидательно на меня посмотрела.
Я дал ей наше, сухое полотенце.
А она утерлась и опять запросила:
— Вить! А давай сварим кофе? Я сейчас встану.
— Тебе нельзя вставать!
— Ага. А ты один сумеешь?
Похоже было, что ей самой хотелось, чтобы за ней ухаживали, как за детсадиковской!
— Я никогда не варил.
— Я тебе расскажу. Я тоже никогда не варила, но знаю, как мама... Еще с довойны. Вообще-то мама сейчас не разрешает мне его пить, я ее просила. Говорит, что ангина очень сказывается на сердце, а кофе на него же действует. Но мне сегодня так хочется чего-нибудь такого! И потом, я ведь почти совсем выздоровела, правда?
По ее указке я крутил бабушкину мельницу. Снова кипятил воду в кастрюльке.
— Только нельзя, чтобы кипяток. Просто чтобы очень горячая, и тогда засыплешь. Кажется, нужно по одной чайной ложке на стакан. Ты сколько налил стаканов? — распоряжалась мною Оксана.
Задавалась она или на самом деле тут были нужны всякие такие точности, я не знал. Но все равно почему-то расстарался перемерить стаканами уже очень горячую воду. Будто это была какая игра, которая нравилась мне. Наверное, все-таки не задавалась, она совсем не такая...
— Теперь надо дать отстояться, и пусть немного остынет. Какой ты хороший, Витя, спасибо тебе...
Насахариненное кофе было — тьфу, был? — вкуснее, чем просто подслащенный кипяток, или даже смородиновый чай, который мы обычно пили, если мать была дома. Я принес Оксане кружку прямо в кровать, она отхлебывала малюсенькими глоточками и, видимо, блаженствовала.