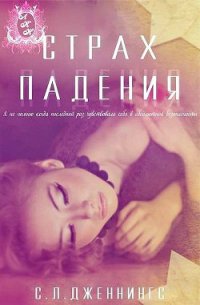Псевдо - Ажар Эмиль (электронные книги без регистрации .TXT) 📗
Однако, хотя я и был тайно заражен, как Плющ, по диагностике советских психиатров — врагов СССР, «реформаторскими и мессианскими тенденциями», меня не подвергли лечению инсулином, с транквилизующей комой.
Доктор Христиансен рекомендовал писать по девять-десять часов в день, чтобы уменьшить дозы реальности путем выдавливания ее наружу. Он говорил, что литература для меня так же полезна, как дефекация. Я послушал его, и мало-помалу он снял все остальные лекарства.
Я помогал, поскольку у всех добровольных эмигрантов всегда есть скрытая надежда вернуться, и это прискорбно известный факт, что даже самые решительные шизофреники часто соглашаются вернуться.
Я писал. Я пишу. Я на 77-й странице рукописи. Конечно, я хитрю. Я не говорю ни о… ни о… и, уж конечно, ни о… потому что это был бы четкий, понятный язык, который множит и заделывает дыры и пожарные выходы, ставит на отсутствующие окна решетки и называет их твердыми фактами.
Взять, например, краполет. Это капитальный элемент трансплантации, а также Сакко и Ванцетти, и ничего он не значит. Значит, есть надежда. Есть отсутствие привычного рутинного смысла и, значит, надежда на что-то.
Я закончу свою книгу, потому что пропуски между словами дают мне шанс.
Я чувствовал себя немного лучше. Я узнал, что спецкор от мира сего не приезжал в Копенгаген, что все это мои страхи и разные фантазмы, и написал госпоже Ивонн Баби письмо, в котором просил прощения за то, что побеспокоил ее по пустякам.
Иногда меня все еще беспокоили государственные деятели. Тогда я навещал одного знаменитого соотечественника, приезжавшего к доктору Христиансену пару раз в год на лечение. Бывший министр, обломок прошлого и, значит, человек с большим будущим. Его мучили периодические приступы страха, которые доктор Христиансен называл его месячными: и тогда он гнил и рассыхался, как только вокруг него начиналось какое-нибудь движение. Ему казалось, что все заминировано, все пустое, все сгнило изнутри и при малейшем дуновении разлетится пылью и прекратит существование. Состояние ухудшилось после Португалии, потому что он ничего не понял в том, что произошло. Он отказывался принимать ванны, потому что пыль при контакте с водой превращается в грязь. Вокруг него надо было ходить на цыпочках, затаив дыхание, чтобы он не рухнул и не превратился в кучку пыли. Если послушать его во время приступов, то следовало выставить вокруг него армию и полицию, чтобы избавить его от всяких посягательств. Медсестра должна была заворачивать его в полосочки ткани, как мумию, чтобы ему было спокойней, чтобы он убедился, что не превратится в песок, помочь ему почувствовать свою плотность. Но приступы никогда долго не длились, потому что опросы общественного мнения убеждали его в том, что он фигура реальная и внушает веру. Тогда он верил, что действительно и прочно существует. Его зовут господин Депюсси, у него красивое лицо — избирательное и широковещательное, а на телеэкране, да при хорошем освещении, и вовсе совсем как живое. Какое-то время он еще продержится, и это все, что от него нужно.
Каждый раз, когда я его вижу, мне хочется чихнуть, чтобы напугать его. Но если я чихну, тут же на его место поставят такого же, зато я буду раскрыт и под подозрением по поводу реформаторских и мессианских тенденций, как Плющ.
Знаете ли вы, что в Осло Норвежская академия ищет безрукого и безногого глухонемого, который не привнес бы никакого вклада в историю нашего времени, чтобы вручить ему Премию мира?
Господин Депюсси принимал нас — я часто говорю о себе во множественном числе — в полной неподвижности, кстати, полной музеев и шедевров. Вокруг меня была куча других предметов, но я был очень спокоен и не чувствовал страха. Я не говорю, что все предметы — скрытые тигры, которые вот-вот на меня набросятся. Я так не говорю, потому что избрал скромность и осторожность. Мне хочется вернуться в Лот, подальше от мира. Там я лучше себя чувствую больным, чем здесь.
— А, господин Ажар, кажется, вы собираетесь дать нам новую книгу?
Дать нам, вы представляете себе? Я сочная груша и живу только для их услаждения.
— Вы здесь не со вчерашнего дня, господин Ажар…
— Да, я пишу. И еще наблюдаю. Я прохожу курс лечения, если угодно, но поскольку я веду себя нормально и хожу на свободе, то это бросается в глаза. Я живу с психами, чтобы научиться соответствовать. Так, по крайней мере в Париже, мне вернут водительские права.
Я поработал еще над мадам Розой, потому что мне не хотелось с ней расставаться, после «Всей жизни впереди» она стала для меня вроде матери со своим склерозом. Я, значит, вскарабкался на шесть этажей вверх без лифта, чтобы побыть с ней по месту ее проживания, и дышал еще тяжело.
Я громко дышал.
— Осторожно! — завопил господин Депюсси. — Задерживайте дыхание, ей-Богу! Вы же на меня дуете! Я разлечусь в пух!
— Я не обязан соблюдать вашу конституцию и ваше устройство, — сказал я, — и отказываюсь задерживать дыхание, чтобы продлить существующий порядок вещей. Мы, левые, нам стоит только дунуть, и мы все разнесем, каждый знает.
Алиетта положила мне мягкую руку на плечо:
— Не говори так, Алекс, ты себя напугаешь.
Господин Депюсси выглядел потрясенным.
— Вы левый? — спросил он меня почтительно, поскольку был правым и поэтому нуждался в моих услугах.
— Я не политик, — сказал я, — поскольку я не царствую.
Но я и не человеконенавистник. Среди шизофреников мизантропов нет. И никогда не было. Они получаются такими от любви.
Я неспособен на ненависть, потому что овощи вроде меня никого не ненавидят.
Я настолько дергался из-за своих гуманитарных мыслей, что господин Депюсси начал пылить и дымиться. Я ясно это видел, что доказывает, что он был еще безумней, чем я думал.
— Извините, — сказал я, потому что больным не стоит возражать.
Я добавил, чтобы сменить тему разговора:
— Кажется, Объединенные Нации скоро объявят год дерьма, конечно исключая евреев. У него на лице появилось выражение: «Понял. Ага».
— Вы нигилист? — спросил он.
Я не возражал. Это было совершенно неверно, естественно, полная туфта, и, значит, здорово меня прикрывало.
— Извините, у вас на рукаве холокост, — сказал я, подняв руку и сделав соответствующее лицо.
— Только не трите меня! — захныкал он, и приступ у него, наверно, достиг своей высшей очки, потому что от него снова пошло облако параноидальной пыли. — Не прикасайтесь к ним, преступление вы этакое!
— Ничего страшного, мы еще даже не начали играть, — бросил я ему с последней грубостью, потому что было чудесно сознавать, что кому-то еще страшнее, чем мне, это очень успокаивало.
— На помощь! — прошептал он, потому что он знал, что если кричать, то будет все то же самое.
— Смерть легавым, — предложил я, чтобы возложить всю ответственность на собак и самому остаться чистеньким.
— Я никогда не был в Уганде, — твердо заявил он, и он говорил правду, потому что зачем ему было туда ездить, повсюду одно и то же.
— Они подадут вам это на завтрак, — пообещал я ему, потому что раз уж так обстоят у нас дела, то разницы между концом света и настоем ромашки не видно.
И тогда я заметил, что происходило в углу комнаты, немного в стороне от нас. Нини пыталась хапнуть Ажара. Нини, как явствует из ее имени, терпеть не может наличия литературных произведений, в которые бы она не пролезла. Если есть надежда, она просто заболевает. Нини пытается с незапамятных времен, и чем дальше, тем больше, заграбастать каждого автора, каждого творца, чтобы отметить его творчество ничем, поражением, отчаянием. У воспитанных людей ее зовут нигилетка, от чешского слова Нихиль, нигилизм, но мы зовем ее Нини, с большой буквы, потому что она терпеть не может, когда приуменьшают ее роль. В этот момент на ковре она пыталась оплодотворить себя Ажаром, чтобы впоследствии нарожать ему деток из ничего.
Ажар защищался как лев. Но с Нини всегда есть соблазн не сопротивляться, дойти наконец до дна ни-ничего, где находится мир без души и совести. Единственный шанс выпутаться для Ажара был в том, чтобы хорошенько доказать свое небытие, свое состояние как бы вроде пустышки, полное отсутствие человеческого подобия, достойного подцепить такую заразу, как Нини, поскольку ничто по техническим причинам никогда не трахается с ничем. Или, наоборот, открыть на поле битвы что-нибудь настоящее, откровенное, и при этом прикрыть свое сокровенное, я хочу сказать, как рыцарь Байярд Далабри с поднятым забралом, а против него Нини с открытым передком, — поднять забрало и отречься от всякой пустоты и звона, в которых гнездится Нини и откладывает яйца, для того чтобы они лопались и заливали все своей гнилью. Я держал руку Анни в своей, как в самых старых любовных штампах, которых никаким пятновыводителем не выведешь. Я думал о людях, которые любят друг друга, и Ни-ни корчилась на полу в ужасных судорогах и никак не могла найти пустоту в гулкой темной цистерне, звенящей смертью в вечно будущей жизни.