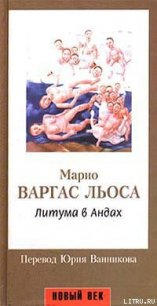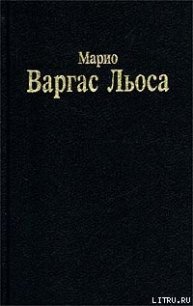Тетушка Хулия и писака - Льоса Марио Варгас (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Мы отредактировали объявления, съели по жареной рыбе, выпили холодного пива, провожая взглядом сереньких мышек, сновавших временами по балкам у потолка ресторана «Раймонди» и как будто специально запускаемых туда, чтобы подтвердить вековую историю этого заведения, после чего Хенаро-сын рассказал мне еще об одном конфликте с Педро Камачо. Причина конфликта — герои четырех радиодрам, с которыми Камачо намеревался дебютировать в Лиме. В каждой из драм героем был пятидесятилетний мужчина, «удивительно хорошо сохранившийся».
— Мы толковали ему, ссылаясь на нашу практику, что публика предпочитает героев от тридцати до тридцати пяти лет, но этот тип упрям как мул, — жаловался Хенаро-сын, выпуская дым через ноздри. — Что если я ошибся и боливиец вызовет грандиозный провал?
Я вспомнил, как накануне в клетушке «Радио Сентраль» артист вдохновенно разглагольствовал о том, что такое пятьдесят лет для мужчины. Он утверждал, что в этом возрасте мужчина достигает вершины своих умственных и физических возможностей, жизненного опыта, что в этом возрасте он как никогда желанен для женщин и опасен для других мужчин. С настойчивостью, показавшейся мне подозрительной, он повторил, что старость — это нечто вроде «вседозволенности». Из всего сказанного я уяснил: боливийцу уже исполнилось пятьдесят, его пугала старость — тень человеческой слабости на его гранитном духе.
Когда мы закончили работу над рекламой, уже было поздно отправляться в Мирафлорес. Я позвонил дяде Лучо и предупредил, что приеду вечером его поздравить. По моим предположениям, в доме будет сборище родственников, приехавших поздравить дядюшку, но никого, кроме тети Ольги и тетушки Хулии, не оказалось — парад родни состоялся днем. Дядюшка и тетушки пили виски, налили и мне. Тетушка Хулия еще раз поблагодарила меня за розы — я увидел букет на серванте в зале, и роз там было совсем немного, — и, как всегда, стала острить, требуя, чтобы я покаялся и рассказал, что за «программа» была у меня в тот вечер, когда я надул ее: девица из университета или вертихвостка на радио? На Хулии было голубое платье, белые туфли, на лице — косметика, а прическа — только что из парикмахерской; она смеялась громко и откровенно, говорила несколько хрипловатым тоном, вызывающе поглядывая на меня. С некоторым опозданием я обнаружил, что она привлекательна. Дядя Лучо в порыве энтузиазма заявил: пятьдесят лет бывает лишь раз в жизни — и предложил поехать в ресторан «Боливар». Я подумал: вот уже второй день подряд мне приходится откладывать редактуру текста о сенаторе-евнухе и извращенце (а может быть, так и следует назвать рассказ?), но потом решил не жалеть об этом. Приятно было окунуться в праздник. Тетя Ольга, оглядев меня, заявила, что мой вид — не лучший для такого ресторана, и заставила дядю Лучо одолжить мне чистую рубашку и вызывающей расцветки галстук, которые хоть немного должны были скрасить поношенность и измятость моего костюма. Рубашка была мне велика, я испытывал неловкость из-за воротничка, болтавшегося вокруг шеи, а это привело к тому, что тетушка Хулия стала называть меня Попейе [17].
Я никогда не бывал в ресторане «Боливар», и он показался мне изысканнейшим и элегантнейшим местом в мире, а еда — самой утонченной из всего, что я когда-либо пробовал. Оркестр исполнял болеро, пасодобли, блюзы; звездой шоу была молочно-белая француженка, которая так сладострастно мурлыкала песенки, что создалось впечатление, будто она насилует микрофон, и которую дядя Лучо, будучи в прекрасном настроении, все повышавшемся по мере того, как он опустошал бокалы, громко приветствовал на странном языке, полагая, что говорит на чистом французском: «Враво-о-о-о! Враво-о-о-о! Мамуазель Черри!» Первым, кто бросился танцевать, был я. К своему великому удивлению, я потащил на площадку тетушку Ольгу, хотя совершенно не умел танцевать. В то время я был твердо убежден, что литературное призвание несовместимо с танцами и спортом, однако, к счастью, народу было так много, что в полумраке и тесноте никто не догадался о моем невежестве в области хореографии. Тетушка Хулия в свою очередь доставила немало хлопот дяде Лучо, заставив его танцевать, не держась за нее руками, и к тому же выделывать всяческие па. Танцевала она хорошо — и многие мужчины провожали ее взглядом.
На следующий танец я пригласил тетушку Хулию, предупредив, что танцевать не умею, но, так как музыканты играли очень медленный блюз, я достойно выполнил свои функции.
Мы станцевали еще дважды, постепенно отдаляясь от столика, за которым сидели дядя Лучо и тетя Ольга. В момент, когда музыка смолкла и тетушка Хулия явно собиралась освободиться от меня, я задержал ее и поцеловал в щеку, совсем близко от губ. Она посмотрела на меня с таким удивлением, будто на глазах у нее совершилось чудо. Оркестранты сменялись, и нам пришлось вернуться к столику. Здесь тетушка Хулия вновь стала подшучивать над дядей Лучо по поводу его пятидесятилетия — рубежа, после которого все мужчины превращались в «старых хрычей». Иногда она бросала на меня быстрый взгляд, как бы удостоверяясь, на месте ли я, и по ее глазам я уяснил: у нее не укладывалось в голове, как это я ее поцеловал. Тетя Ольга уже устала и уговаривала нас уйти, но я настоял еще на одном танце. «Интеллигент начинает разлагаться», — констатировал дядя Лучо и увлек тетю Ольгу на последний танец. Я пригласил тетушку Хулию, и все время, пока мы танцевали, она — впервые — молчала. Лишь только дядя Лучо и тетя Ольга затерялись среди танцующих, я слегка привлек к себе тетушку Хулию и коснулся своей щекой ее щеки. «Послушай, Марито», — долетел до меня ее растерянный шепот, но тотчас же я прервал ее, сказав на ухо: «Запрещаю тебе впредь называть меня Марито!» Она чуть откинула голову, чтобы взглянуть на меня, попыталась улыбнуться, и тогда, почти бессознательно, я наклонился и поцеловал ее в губы. Все случилось мгновенно, она не ожидала этого и от удивления даже остановилась. Она была явно потрясена: глаза широко раскрылись, губы разомкнулись. Музыка смолкла. Дядя Лучо оплатил счет, и мы ушли. По дороге в Мирафлорес — мы с тетушкой Хулией сидели вдвоем на заднем сиденье машины — я взял ее руку, нежно сжал и уже не отпускал. Она не убирала руки, но не произнесла ни слова, вид у нее по-прежнему был чрезвычайно растерянный. Выйдя у дома своих стариков, я спросил себя, на сколько же лет она старше меня.
IV
Ночь в Кальяо [18] — влажная и темная, как волчья пасть. Сержант Литума поднял воротник плаща, потер руки и приготовился исполнять свой долг. Это был человек в расцвете сил — ему было пятьдесят, уважаемый всей полицией: не ропща, он нес службу в самых опасных местах и лихо сражался с преступностью, о чем свидетельствовали шрамы на его теле. Тюрьмы Перу кишели злоумышленниками, руки которых он сковал наручниками. Его приводили в качестве примера в приказах, отмечали в официальных речах, дважды он был награжден, но все эти заслуги и слава не повлияли на его скромность, столь же великую, как и его храбрость и честность. Вот уже год Литума служил в четвертом полицейском комиссариате Кальяо и вот уже три месяца выполнял самую трудную обязанность, каковой судьба может наградить сержанта, несущего службу в порту: ночные дежурства.
Далекие колокола на церкви Божьей Матери Кармен де ла Легуа пробили полночь, и пунктуальный, как всегда, сержант Литума — широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, сама исполнительность и предупредительность — отправился в путь. За его спиной, как слабый огонек во мраке, осталось старое деревянное строение четвертого полицейского комиссариата. Сержант представил себе: лейтенант Хаиме Конча, естественно, листает комиксы про Утенка Дональда [19], полицейские Сопливый Камачо и Яблочко Аревало, наверное, балуются свежесваренным кофе с сахаром, а единственный арестованный за день — вор-карманник, пойманный на месте преступления в автобусе на маршруте Чукуито-Ла-Парада и хорошо отлупцованный полудюжиной разъяренных пассажиров, — скорее всего спит, скорчившись на полу камеры.
17
Герой американских комиксов — незадачливый старый моряк.
18
Главный перуанский порт близ Лимы.
19
Персонаж американских комиксов и детских фильмов.