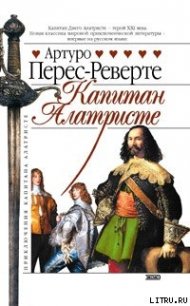Осада, или Шахматы со смертью - Перес-Реверте Артуро (книги без сокращений txt) 📗
— Если их обнаружат, мы услышим.
Лолита кивает, не размыкая губ. Она знает, что старый Сантос прав. Это спокойствие означает, что «Кулебру», где бы ни находилась она сейчас, никто пока не заметил. В противном случае одна из французских батарей, размещенных между Санта-Каталиной и Ротой, давно уже открыла бы огонь и ветер донес бы сюда с того берега орудийный грохот. Но, если не считать шума ветра, иногда вдруг принимающегося завывать, над бухтой висит полнейшая тишина.
— Туда пролезть — дело нелегкое, — добавляет Сантос. — Требует времени.
Лолита снова кивает. Неуверенно и печально. Когда за открытым окном с особенной яростью проносится очередной порыв ветра, она зябко вздрагивает, хоть набросила поверх халата шерстяную шаль. Ноги в сафьяновых комнатных туфлях, волосы прикрыты шелковым чепчиком. Она не спала всю ночь и вот уже два часа не покидает вышку. В последний раз поднялась сюда после того, как, оставив наблюдать старого слугу и строго-настрого приказав сообщать, если будет хоть что-то новое, сошла вниз и ненадолго забылась тревожным и неглубоким сном, не принесшим бодрости и надежды. И уже очень скоро вновь была на башне и потребовала трубу себе. Сейчас руки и щеки у нее закоченели, и от того, как напряженно вглядывается она в темноту, вжимая в глазницу окуляр, выступили слезы. Методично осматривает береговую линию справа налево, задерживая кружок объектива на темном пятне бухты Рота, но там по-прежнему — тьма и тишина. Мысль о том, что «Марк Брут» со всем грузом пропал навсегда и рухнула единственная возможность отбить его, приводит Лолиту в отчаянье.
— Боюсь, ничего уж не поделаешь, — произносит она шепотом. — Что-то им помешало.
Но Сантос произносит терпеливо и урезонивающе, с вековой флегмой морского человека, привыкшего играть с судьбой в орлянку:
— Полноте, сеньорита… Не надо так говорить. Капитан дело свое знает.
В наступившей тишине слышно, как под неистовыми порывами норд-веста, будто саваны обезумевших призраков, вьется, трепещет, рвется с веревок, натянутых на соседних террасах, белье.
— Я закурю, донья Лолита?
— Да, конечно.
— Благодарствуйте…
Вспыхивает огонек, на миг выхватывая из темноты глубокие морщины на лице Сантоса. Вокруг Пепе Лобо, думает она, сейчас такие же лица — такие же выдубленные и просоленные морем люди. Не напрягая воображения, она может представить себе, как корсар — если, конечно, он не отказался от этой затеи и все еще плывет к цели — всматривается в расступающуюся под форштевнем «Кулебры» тьму. Вслушивается, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, кроме воя ветра, скрипа дерева и треска парусного полотна, меж тем как впередсмотрящий бросает лот и шепотом отсчитывает, сколько саженей морской воды пролегло под килем, а все остальные в таком напряжении, что в пересохшем рту язык прилипает к нёбу, ждут, когда грохнет французская пушка и картечь чисто подметет палубу.
Новый порыв влажного мистраля с воем проносится над крышами, долетает до окна смотровой вышки. Дрожа под шалью, Лолита, так ясно и явно, как ощущают разверстую рану, вспоминает все то, чего не сделала, — зияние несделанных движений, безмолвие слов, так и не прозвучавших в полутьме последнего вечера: прошло всего несколько часов, а кажется, будто минули годы, — когда она смотрела в лицо человека, при воспоминании о котором ее еще сильнее, чем от холода, бьет дрожь, и видела рассекающую смуглое лицо белую полоску улыбки, две влажные зеленые виноградины глаз, что с таким отсутствующим и сосредоточенным видом уставились в ночь, неумолимо и полновластно владеющей их чувствами. Их жизнями. Может быть, все это кончится и он вернется, думает она внезапно. И тогда я сумею. Или нет. Если нет — то никогда. Если да — то на всю жизнь.
— Вон он! — кричит Сантос.
Лолита Пальма глядит в указанном направлении. Она затаила дыхание, по коже бегут мурашки. Через бухту ветер доносит однотонный глухой грохот, похожий на перекаты очень отдаленного грома. Возле Роты над черной поверхностью моря сверкают крохотные искорки выстрелов.
Треск крошащегося дерева, вспышки, крики. При каждом выстреле «Кулебра» содрогается, как живое существо. Живое — и умирающее. С той минуты, как тендер отошел наконец от борта бригантины и прилег от качки на левый борт, у Пепе Лобо не было времени даже взглянуть, как идут дела у Рикардо Мараньи и абордажной команды. Едва лишь последний матрос перескочил на палубу «Марка Брута» — истинное чудо, что не сломали бушприт, когда сближались во тьме, хоть и шли уже против ветра, — капитан все свое внимание отдал фелюге, которая, погасив все огни, открыла по ним пальбу с правого борта. Капитана, который никого больше не ожидал обнаружить здесь, врасплох захватил внезапный доклад вахтенного, что с подветренной стороны, с левого борта бригантины стоит на якоре еще какое-то судно, и он уже не успел изменить маневр. Судно оказалось небольшое, хорошо вооруженное. Очевидно, еще один корсар, покрутившийся в бухте и совсем недавно тоже ставший на якорь у Роты. И единственный его выстрел обнаружил нападавших раньше времени, хотя, впрочем, теперь уже все равно. Не до того. Есть чем заняться: француз — если это и вправду он — поспешно снялся и, пользуясь сильным ветром, отошел, пылая костром, потому что «Кулебра», переправив на бригантину абордажную команду, почти в упор ударила по нему залпом всего правого борта и подожгла.
Главное дело заваривается по левому борту захваченного «Марка» — там, где с корсарской фелюги, стоящей совсем близко, открыли очень сильный огонь из пушек и ружей. Так темно, что Пепе Лобо не различил бы собственный рангоут, если бы полыхающий неподалеку парусник и почти непрерывные вспышки орудий не освещали невеселую картину — снасти измочалены, грот в нескольких местах пробит и обрывки парусины вяло свисают до середины мачты, а маневрировать можно исключительно фоком. На палубе, заваленной перепутанными обрывками такелажа, обломками и щепками, мечутся темные против света фигуры матросов, которые пытаются нарастить оборванные гордени и шкоты, чтобы можно было управлять парусом, видно, как артиллеристы лихорадочно чистят, заряжают, наводят четыре орудия правого борта. Пепе Лобо пробегает вдоль батареи, понукая замешкавшихся, помогая тянуть за тали, удерживающие лафеты.
— Огонь! Огонь!
Сгоревший порох ест глаза, грохот боя глушит крики. «Кулебра» до предела сблизилась с французской фелюгой, которая по-прежнему стоит на якоре и ведет огонь из всего, что может стрелять. Три 6-фунтовых орудия и две 12-фунтовые карронады. На такой дистанции картечь, которой они бьют, действие оказывает совершенно губительное. При каждом выстреле корпус «Кулебры» содрогается, ходит ходуном и обрывки снастей свободно болтаются в воздухе. Слишком много, отмечает Пепе Лобо, слишком много людей лежит на палубе — и те, что упали замертво, и те, что свалились ранеными, и те, что пока невредимы, но в ужасе припали к доскам настила, пытаясь укрыться от свистящих над головой пуль и осколков. Хорошо еще, думает капитан, что загодя, еще перед входом в бухту, спустил в море шлюпку: останься она на палубе, ее разлетающиеся обломки стали бы смертельно опасны для всех, кто поблизости.
— Кому охота живым уйти — стреляй!
Новые вспышки. После каждого выстрела пушки подпрыгивают, откатываются, удерживаемые талями. Остро ощущается нехватка в людях. Еще до начала боя на «Марка Брута» пришлось отправить абордажную партию, и оттого орудия остались без достаточного числа прислуги. А те, кто имеется, кашляя, вытирая слезящиеся от едкого дыма глаза, матерясь, продолжают ворочать аншпугами, накатывая пушки. Пепе Лобо присоединяется к комендорам, яростно, обдирая ладони, тянет за тали, помогает наводить. Потом, спотыкаясь о развороченный настил, перешагивая через тела, уходит на корму. Предчувствие неминуемой катастрофы, смешанное с ощущением того, что от него уже мало что зависит, лишает капитана обычного спокойствия. Ветер разгоняет клочья порохового дыма, и с каждой минутой все явственнее открывается стройный черный силуэт фелюги, с правого борта которой почти беспрестанно мелькают искорки мушкетных и вспышки орудийных выстрелов. Счастье еще, думает капитан, что стоим почти вплотную и береговые батареи не открывают огонь, опасаясь задеть своего.