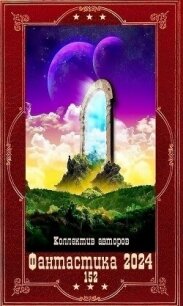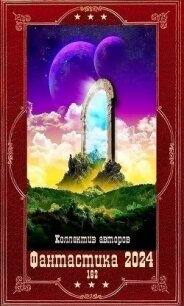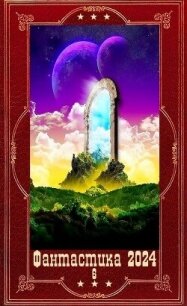Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
– Как я поняла, он нанял вас в качестве секретарши, – сказала Светлая.
“Верно! – сказал человек за дверью. – Твоя мать однажды выгнала тебя, когда ты пыталась войти! Не лезь!”
К его ужасу, дверь распахнулась, и она влезла‑таки, откатывая его назад. Она выглядела выросшей фута на два, была огромная и широкоплечая в трикотажной водолазке, под которой ее вольные груди бугрились, как баклажаны, как дыни. Мужчина в кресле попытался было проскочить мимо нее в кабинет, но она преградила ему путь и закрыла дверь ванной на цепочку.
– Так, отлично, – сказала она весело. – Без фокусов у меня.
Он заметался из угла в угол, словно жук в спичечном коробке. Дверь приоткрылась на дюйм, шире не позволяла цепочка, и он увидел лицо Эллен Уорд – она заглядывала внутрь и зло колотила в дверь кулаками. Ванная отзывалась гулко, как барабан.
– Ну‑ка, – сказала Шелли Расмуссен и пустила горячую воду.
Заклубился пар, скрывая ее наполовину. Нагибаясь поболтать рукой в поднимающейся воде, она волей-неволей отвернула лицо от пара. Вскинула руку отвести влажные волосы. Досадливо крякнув, подалась назад, стащила водолазку через голову, бросила в сторону и снова наклонилась проверить воду. Огромные груди свесились в ванну, пар обволакивал ее. С жуткой улыбкой она выпрямилась в облаке пара во весь свой девятифутовый рост и уперла кулаки в бока. Ее соски нагло пялились на него, как глаза. Его зачарованный, полный ужаса, загипнотизированный взгляд, казалось, ее позабавил, и она игриво покачала бедрами.
– Так! – воскликнула она. – Давайте‑ка на вас посмотрим. Прочь эту одежонку!
Она пошла на него, он катнулся прочь, дернулся, схватился было за цепочку, Шелли бросилась к нему, он отпустил. Эллен лупила по двери снаружи, ванна наполнялась, вокруг все было бело от пара. На одно дикое мгновение его лицо показалось в зеркале, пронеслось размытым пятном жути, и вот она добралась‑таки до него. Ее руки на его ширинке, расстегивают молнию, тянут – брюк нет. Он цеплялся за рубашку, но недолго – рубашка сорвана. Сидел беззащитный в одном белье, к ноге примотан мочеприемник, трубка тянется к прорези трусов.
– Ох ты ж! – воскликнула Шелли Расмуссен. – Старый проказник! Так, ну‑ка, что за секреты от меня!
Она нагнулась над его креслом, колоссальные груди колыхались в дюймах от его носа, как наполненные водой воздушные шары, она стала отрывать от трусов его обороняющиеся руки. Он отбился было, но она полезла снова. Отбился еще раз, и она схватила трубку и потянула, так что ему пришлось расправить ладони и прикрыть член, выдернутый из трусов, как рыба из воды.
– Ха-ха! – сказала она. – Экий старый проказник!
Он с ужасом почувствовал, что культя стала распухать и подниматься, наполняясь приятным теплом. Она поднималась, пока не встала над его пахом торчком, грубым поленом, ее заштопанный, в рубцах, конец покраснел и раздался. Он увидел восхищенное лицо Шелли Расмуссен. Она рассмеялась мягким хрипловатым смехом и опять протянула руку.
– Нет! – закричал он. – Нет!
Он слабенько помочился в трубку, и тут же громадный обрубок уменьшился, обмяк, опустился. Шелли Расмуссен бросила на культю взгляд, полный отвращения, схватила свою водолазку и вышла. Дверь закрыть не потрудилась, и теперь над ним, глядя вниз, стояла Эллен Уорд. Уголки ее темных глаз покраснели от слез; она прикоснулась к сдутой культе с нежностью.
– Вот видишь, – сказала она. – Не надо было ей. Это мое дело.
Ее лицо наклонилось низко к его лицу, так низко, что видна стала крапчатость радужных оболочек и тушь для бровей на коже под жесткими изогнутыми волосками. Она нагнулась еще ниже, ее губы были нежны на вид, глаза печальны. Глаза выросли, стали огромны, они заняли все поле зрения, заслоняя яркий свет, отраженный от белых плиток, и санитарный фарфор, и пустое зеркало. Все ближе, все больше делались ее глаза, пока, смазанные от близости, в дюймах от его собственных, не стали глазами, какие видит, занятый своим делом, любовник или душитель.
Вот каким был сон, от которого я пробудился полчаса назад в пропотевшей пижаме и с полным мочеприемником, – сон из тех, после каких просыпаются в мокрой от мочи постели, но, к моему смущению, он был похож и на влажное сновидение подростка. У меня, надо сказать, добрых пять минут ушло на то, чтобы убедить себя, что это и правда был только сон, что я всего лишь наполнил мочеприемник, а не испытал семяизвержение, что никого из этих женщин тут не было, что Ада не перенесла сердечного приступа, что Шелли не ввалилась пьяным лесорубом, чтобы изнасиловать меня в ванной. И я задумался, скажу вам честно. Я не такой дурак, чтобы верить, что снящееся мне о других людях сообщает о них некие сокровенные истины, но и не такой, чтобы отмахиваться от того факта, что оно сообщает некую сокровенную истину обо мне.
Я лежал в изрядной тоске – старый, никчемный, беспомощный, одинокий. Было черно, как в угольной шахте, ни звука через открытое окно, в соснах ни шевеления, ни тишайшего пения ветвей. А потом я услышал, как по автомагистрали приближается дизель, как он атакует подъем на полном ходу. Я представил себе, как он мчится в гору по пустому шоссе, подобно Зверю Рыкающему у Мэлори [172], изрыгая храп и рев мотора, озаряя фарами темные деревья и следуя изгибам белых линий, как над его вертикальной выхлопной трубой стоит шестидюймовый конус голубого пламени. Я слушал его песню, полную ликующей мощи, и чувствовал, как щекотно встают волоски на загривке, где голова соприкасается с подушкой.
А потом – неизбежное. Песнопение мощи ослабло на едва ощутимую долю, и едва к нему присоединился звук натужного усилия, как изменился тон, понизился при переключении скоростей на целую треть. Все еще мощное, все еще сокрушительное, движение продолжалось, мотор ревел, а потом его тон упал снова и, почти немедленно, упал в третий раз. Чего‑то в этом звуке не было уже – уверенность ушла. Я мог представить себе водителя, лилипута в полутемной кабине, внимательного к своей паутине приспособлений, к своим трем рычагам, следящего за спидометром, за нарастающей крутизной дороги и за конусом пламени над выхлопной трубой и слушающего мотор, чтобы не упустить момент, когда торжествующее завывание зверя начнет подрагивать или слабеть. Тогда нога, рука, и на несколько секунд, на полминуты вновь песнь уверенной мощи, но ниже, глубже, не такая взволнованная и более целеустремленная. И снова вниз на крутом подъеме возле Грасс-Вэлли, и еще вниз, вниз, вниз, три разных тона, и наконец добросовестный басовитый рык, который позволит преодолеть весь хребет, – удаляющийся, затихающий рык среди сосен.
Я потянулся к микрофону на прикроватном столике и записал свой сон на ленту, что бы он ни значил, и теперь лежу на спине, сна ни в одном глазу, холодный от остывшего пота, пластиковый микрофон лежит, касаясь моей верхней губы, большой палец на кнопке, и я раздумываю, хочу ли сказать что‑нибудь себе.
“Что это значит – угол покоя?” – спросила она меня во сне, когда мы разговаривали о бабушкиной жизни, и я сказал, что это угол последнего, лежачего покоя. Так, вероятно, оно и есть – что для мужчины, что для женщины; и все же не это я надеялся обнаружить, когда начал исследовать бабушкину жизнь. Я думал, начиная – и продолжаю думать, – что и другой угол был все эти годы, когда она старела, старела и сделалась очень старой, а дедушка тянулся за ней год за годом – отдельная линия, которая не пересекалась с ее линией. Они были вертикальные люди, они жили с достоинством, каждый со своей гордостью, и только оптическая иллюзия перспективы позволяет сказать, что их линии сошлись. Однако и двух месяцев не прошло после его смерти, как она слегла и тоже умерла, и это может означать, что в абсолютной точке исчезновения они пересеклись‑таки. Что они пересекались на протяжении лет, дольше, чем он – он в особенности – готов был бы когда‑либо признать.