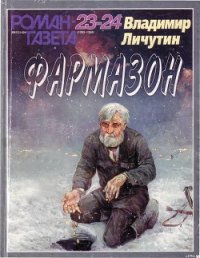Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
– С профессором-то надо поласковей, Федя. На чай бы позвал... Какую дорогу отбухал человек в консервной банке на колесах. На таких телегах, поди, никто нынче уж не ездит. Ну Царь Горох разве... Так-то ведь цариш-ко-о! Тому что ни пост – все Масленица. – Женщина сердечно засмеялась, игриво сдула с ресниц длинный рыжий ворс малахая, налезающий на глаза, и посмотрела вдруг на, меня, как свойка.
А мысли мои невольно сбивались в одну сторону: кем приходится Федору русская матрешка в ста одежках, словно бы это знание и было первостепенным; законная ли жена Горбачу иль присохшая к мужику красава, приходящая по вызову на ночные утехи, иль просто случайная горожанка-дачница, к которой деревенский мужик нанялся подхалтурить.
– Шурка, ты меня не учи. Он что, баба? – недовольно огрызнулся мужик. – Бабу и ту надо раз в неделю против шерстки гладить, чтобы искры сыпались.
– Осторожней, Федя. От искры – пламя. Погладишь однажды и сгоришь, ошара...
– Ох, Шурка, Шурка, смотри мне. У меня ведь вся страна родная. – Хрустко ступая по крупичатому снегу, подошел к «матрешке» и по-хозяйски гулко шлепнул по округлым, как у кобылицы, стегнам. – Моя необъятная...
Я делал вид, что не слышу полюбовной перебранки, опустив взгляд и легко попинывая смерзшийся катых на заледенелой тропе.
– А ты чего молчишь, профессор? Иль язык в дороге проглотил?
– Да так, слушаю...
– Значит, слушаешь, чтобы ловчей нас обманывать, дураков. Ну-ну... Так ты нынче при Путине или как?
– Или как...
Я поднял взгляд, с трудом узнавая Зулуса. Его нельзя было назвать горестным или особенно помраченным от горя, потускневшим, потерянным после смерти дочери. Наоборот Федор как-то высветлился весь, словно его побелило снежком, осыпавшимся с январской березы. И густой чуб над правым виском, и каракуль мохнатых бровей, и усы тускло серебрились без всякого налета желтизны, будто Зулус с рождения был белокурым, лишь свислые подусья подпалены слегка махрою; но лицо молодое, гладкое, плотное, нащелканное зимними ветрами, и сейчас пламенело, как у младени, только неулыбчивое, с плохо скрываемой надсадой и неприязнью ко мне. Может, так казалось? Угнетенному печалью Зулусу было неуютно на миру, и эта кустодиевская женщина сейчас, наверное, значила куда больше, чем просто утеха; она оказалась причальной чугунной тумбою, к которой он привязался, чтобы выжить. Я понимал, что Зулус тащит на горбе целую торбу горей, и удивительно, что до сих пор не надорвался. И это знание о его судьбе невольно смущало, мешало мне внимательно, плотно смотреть на мужика, словно я был дорого, неоплатно должен ему. Всем своим неприступным видом Зулус требовал от меня оправданий, признаний, раскаяний, потому что это за мною (по его мысли) «идут смертя». Дочь Татьяна незримо до конца дней встала между нами...
– Ну что, профессор, признал меня?
– Поседел-то как...
– Ну, а что ты хотел? Горя-то цепляются за ляжки, как псы... С такой жизни не только побелеешь.
Я кивнул головою и промолчал.
Мне хотелось побыстрее закончить разговоры, да и не было особенной охоты вести докучные, не ко времени беседы, потому приходилось каждое слово как бы выжимать из себя через силу. Я снова взглянул на бабицу уже с невольным мимолетным сожалением, что никогда не увижу ее больше, мысль туманно мелькнула, как молонья, и сгасла, не вызвав азарта. Долгая дорога, мороз, закоченевшие ноги, ожидающие впереди заботы, душевное, с великим трудом достигнутое, внутреннее успокоение – все это не дает хмельного градуса человеку, который окончательно решил допинывать жизнь в одиночестве. Хотя зависть к Зулусу ведь колыхнулась как дальняя зарница, а значит, не совсем засох любовный родник, который я решил навсегда закопать. Шура чему-то широко улыбалась, полноватые губы слегка шелушились, но зубы посверкивали влажно, чисто и тесно как ореховые ядрышки. И я спросил у Зулуса, не сводя глаз с женщины:
– Так я доеду до себя?
– Только до меня...
– Федор, зови гостя в баню, – вдруг требовательно, с металлом в голосе приказала Шура. – Чего ты не зовешь? Видишь, человек с дороги, устал. У нас гостья из Тюрвищ... Ей тоже скучно одной. А тут профессора Бог послал... Есть с кем погутарить за жизнь. Чайку по рюмочке выпьем, а? Ну зови, Федор, зови. Через час будет баня готова. Только выстояться... Как там вас по батюшке?
– Павел Петрович...
– Павел Петрович, господин профессор... Федор и я, мы вместе, зовем вас на парок и на чаек. – Все будто бы робела Шура, строила из себя сметливую и покорную, ловящую каждое слово из губ хозяина. И вдруг словно осенило, насмелилась, скинула с себя личину покорности... а там – огонь. Вот как бы перекатилась неожиданно из угретой меховой полости в передок саней, перехватила у мужика вожжи, толконула его на сторону и давай погонять лошадь по ухабам и раскатам лесной дороги, навряд ли слыша грозных криков и увещеваний хозяина. – А машину оставьте у меня. Эко добро... Тут ничего не пропадет... Федор, что ты стоишь, как статуй?! Ну помоги же товарищу, проводи до дому. Встал истуканом, и не обойти, – пригрубо, повелительно повторила Шура. – Может, у него много вещей. А я тут все и без тебя налажу.
Мне бы отказаться, но как? Зулус почуял мою заминку и вдруг с нарочитым весельем в голосе поддержал:
– Не вздумай отказаться... Женщина тебя просит, сатана в юбке. – Он осклабился, продергивая заиндевелый ус сквозь жесткую щепоть, и добавил: – Такой бани ты еще не видывал... А впрочем, кто вас знает, городских...
Я убрал машину с дороги, тощий сидорок с гостинцами закинул за плечо.
– Не надо меня провожать. Сам найду...
– Сам дак сам, – не возражая, согласился Зулус. – Не детский сад, чтоб за руку на горшок водить. Уж сам с усам, седина по волосам...
– Так не забудьте, Павел Петрович. Я вас жду, – сказала Шура и зачем-то поклонилась. – Не запаздывайте...
Я пошел споро, ноги так и отскакивали от зальделой дороги, будто в мерзлые подошвы вставили упругие пружинки. Потом не выдержал и, прикрыв рот перчаткой, чтобы не застудить горло, потрусил под уклон.
2
Тихо было в деревне, полоненной снегами. Ни одна собака не лайконула на мой приход, ни одна скотинешка не вздохнула утробно в хлеву, словно вымерли Жабки, потиху сошли на нет. Солнце незаметно скатилось за лес, лишь огненный разлив, пронизанный зелеными ручьями, тревожно окрашивал заиндевелый окоем. Об эту пору рано загасает день, под серыми пеленами упокоивая мир, отправляя на сон. И речная заводь, подпирающая деревню, с редкими куртинами пересохшего тростника сейчас походила на заснеженную луговину: ни одной майны на реке, ни приметного станового кола, ни заядлого скорченного над прорубью рыбака, снующего удою над иорданью, промышляющего на уху. Лишь пушистое горностаевое одеяло с волнистыми желтоватыми складками, простроченное сквозь то ли лисьим, то ли волчьим одиночным следом... Значит, еще днями в Жабках хозяиновала пурга, и зверь, оголодовав, еще не кинулся на жировку.
Моя половина была заметена по окна, на стеклах наледь толстыми кругованами, на крыльце сугроб, огрызок печной трубы на крыше едва проклюнулся из-под снега; на всем печать сиротства, невольно пригнетающая человечье сердце грузом безысходности, неотвратимости конца. И только подумал, что придется сейчас огребаться, пробивать тропинку к себе, потом протапливать стылое жилье и готовиться к ночлегу, так тут же все и поникло внутри от предстоящих трудов, и особенно резко почувствовалась моя одинокость, оторванность от земли.
И сразу Марьюшка возникла из памяти, сызмала не умевшая охать и переводить заботы на чужие плечи, де, чем просить кого, так лучше сама... Сейчас бы подхватила, сердешная, лопату, голик, скорехонько бы раскидала забои, проторила бы стежку, подмела от пороши в сенях, раздернула бы занавески, запалила бы загодя укладенные в печи дровишки. И всю бы эту унывную работу исполнила без скулежа, без надрыва, без торопи и того нервного запала, за которым обычно затаивается истерика. И я, устыдясь матери, поневоле бы ожил, забегал, засуетился, поругивая тайно Марьюшку за излишнее усердие (ибо оно-то и понуждает меня шевелиться), стал бы выхватывать у родимой лопату и метлу, де, не надсажайся, и кинулся бы в дровяник и на колодец за водою... Вот для чего мать особенно нужна: она дает закваски характеру, не позволяет завянуть, угаснуть в нехоти, невольно растормашивает, приослабляет раздражение, готовое выплеснуться в самые первые минуты по приезде, когда так трудно, но необходимо переломить себя, чтобы заново разгорячить кровь. Ведь после долгой дороги, когда каждая телесная жилка устала, одрябла и вопит о покое, ой как желанно свалиться на кровать и забыться сном, но старая мать, упорно бродящая по избе, всем своим видом укоряет: де, вставай, лежебока, еще придет время и належишься, выспишься...