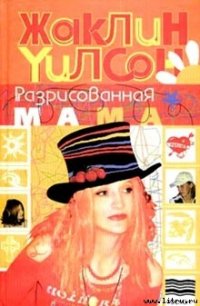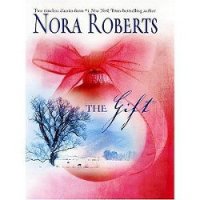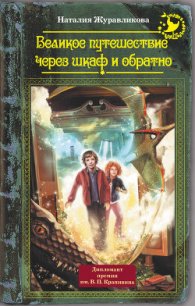Крутой маршрут - Гинзбург Евгения Соломоновна (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .txt) 📗
Несколько часов кряду бродили мы по сопке, охрипли от споров и наконец присели на склоне отдохнуть и поесть брусники. Стоял один из прозрачных сентябрьских деньков. Брусника была в самом соку. Мы ели ее горстями, высыпая в рот из ладони. Оба мои кавалера по-рыцарски подносили мне то и дело зеленые ветки, огрузневшие от зрелых ягод.
– Не надо, Яков Михалыч. Вам трудно… Пусть уж Василий Никитич постарается, он молодой.
– И я не так уж стар, – слегка обижается Уманский и огорченно добавляет: – Впрочем, и не молод, конечно. В Библии сказано: веку же человеческого – семьдесят лет, а что свыше – то от крепости. Так вот, я уже перешел на крепость…
Я навсегда запомнила ту душевную радость, которую принесло мне это нечаянное общение с неожиданно обретенными родственниками. Какими родными я их чувствовала в этот солнечный день! По страданиям. По мыслям. По желаниям и надеждам. Есть ли ближе родство? Почему-то человеку доставляет особую радость сознание общности психологических законов. И мне и моим гостям было так отрадно видеть, что в условиях одинаковых страданий и унижений наши мысли и чувства развивались в одном направлении, приводили нас часто к одинаковым выводам.
С полунамека поняли они и все конкретные сиюминутные трудности моего вольнонаемного существования.
– Вот приедет Васька, – говорил Уманский таким тоном, точно знал моего Ваську с самого рождения, – и я буду с ним заниматься по математике и по языкам. Чтобы он подогнал все, что там упустил, шалопай этакий!
Куприянов, в противоречии со своим всеобъемлющим пессимизмом, утешал меня насчет пропуска.
– Правильно делаете, что пишете повторно. Пишите! По закону больших бюрократических чисел в конце концов машина сработает на «Да». Логика? Ишь чего захотели! Именно по закону алогизмов и сработает. Только на прием к этому атаману шайки не ходите. При всех условиях лучше, чтобы персонально они нас не знали.
В итоге тридцать седьмого года Куприянов потерял двоих самых дорогих людей: жену и товарища, с которым шел вместе с детства до самого ареста. Жена уже на втором году заключения умерла в Томском женском лагере для жен изменников родины. С другом вышло хуже. Он не только стал свидетелем обвинения по делу Василия Никитича, не только дал ему «очную ставку», подтверждая, что Куприянов имел преступные сношения с моряками иностранных кораблей, приходивших в порт Архангельск, но и присвоил себе почти готовую диссертацию Куприянова. Сейчас кафедру получил. И хоть бы рубль дал старой матери своего бывшего друга, которая работает уборщицей и растит четырнадцатилетнего внука, единственного сына Василия Никитича.
– Надо ехать. Не сомневаюсь ни минуты, что опять посадят. Но выхода нет. Может, хоть год продержусь на поверхности, поддержу их.
Отчетливо помню странное, почти мистическое чувство предвидения дальнейшей судьбы Куприянова, охватившее меня вдруг. Знала, что погибнет. И что отговаривать от поездки на материк – бесполезно.
Что до Уманского, то он, оказывается, прибыл на Колыму в качестве вольного врача-договорника.
– Хотите презирайте, хотите нет, но приехал за деньгами. Двойная ставка, процентные надбавки, а у меня две дочки. Обе невесты. Сусанночка и Лизочка. Я вырастил их без матери, жена умерла рано.
Дальше жизнь Якова Михайловича приняла вдруг такой неожиданный оборот: в тридцать седьмом вольные врачи Магадана были призваны выразить на собрании свое гневное возмущение антисоветскими и аморальными поступками арестованного в Москве известного профессора Плетнева.
И тогда доктор Уманский, приехавший на Колыму с целью скопить приданое дочкам, поднялся и сказал: «Я не знаю политических взглядов профессора Плетнева, на эти темы мы с ним не беседовали. Но я работал в его клинике и могу заверить вас, что все эти россказни о том, что он якобы пытался изнасиловать пациентку, абсолютная несусветная чушь. И это скажет вам всякий, кто хоть немного знает профессора Плетнева. И лично я голосовать за такие вздорные обвинения не могу».
На этом и закончилось накопление приданого для барышень Уманских. На другой же день после этого выступления Яков Михайлович был арестован. Он получил по Особому совещанию полных десять лет по статье КРА (контрреволюционная агитация). Он полностью отбыл этот срок и освободился совсем недавно.
Под конец нашей прогулки Яков Михайлович вдруг отчаянно заспорил со мной, услыхав, что я назвала бывших заключенных вольноотпущенниками.
– Совершенно неточный термин! – горячился он. – Абсолютно несравнимые категории! Я вам назову десяток имен римских вольноотпущенников, которые стали потом персонами грата. И уж во всяком случае никому из них не угрожало возвращение в рабство. А мы? Да ведь каждый бывший зэка – это в то же время и будущий зэка. Как вы смотрите, Василий Никитич?
Куприянов усмехнулся.
– Что уж говорить мне, пессимисту, если наш оптимист делает такие прогнозы! Не будем углублять терминологический спор. Скажу только одно: мне ясно, что наша сегодняшняя бесконвойная прогулка – это одна из улыбок судьбы, дарованная нам в промежутке между двумя тюремными циклами. Наш Родной Отец никогда не прощает тех, кому он сделал такое зло…
– Сдаюсь, – провозгласила я, – действительно, вольноотпущенник – не то слово. А как посмотрит ученый совет, если я предложу другое ходовое словечко – «временно расконвоированные»?
– Это точнее, – одобрил старик. – Но тем не менее, сознавая это, мы должны жить так, точно всерьез верим в свою свободу. Иначе сведется к нулю вся прелесть этих расконвоированных дней или месяцев.
– А вот с этой точки зрения стоит ли рисковать мальчишкой? – задумчиво сказал Куприянов. – Может, лучше вам самой добиваться разрешения на материк?
– Кто ее туда пустит, террористку-тюрзачку? И чем она там этого Ваську кормить будет? Здесь вон какого педагогического чина удостоилась, а там и в уборщицы не возьмут. Нет, Ваську надо обязательно сюда. Бог милостив, может, успеет кончить школу, пока мама расконвоирована. А нет, так хоть честным человеком вырастет, увидав своими глазами колымский пейзаж.
С какой готовностью они принимали в себя чужие боли! Как добры они были, эти люди, пережившие свыше того, что, казалось бы, может пережить человек!
И все они умерли, умерли… Куприянов уехал в Архангельск в сорок восьмом, а уже в пятидесятом мы узнали, что он погиб в этапе по пути в Восточную Сибирь, после второго ареста. Уманский был просто сражен горем. «Почему не я? Почему не я? – твердил он все время. – Ведь он, Василий Никитич, почти целых тридцать лет не дожил до того возраста, который определен человеку Священным писанием. Такой ученый! Мог быть вторым Пастером или Вассерманом. А умер от голодного поноса…»
Впрочем, и сам Яков Михалыч ненадолго пережил своего молодого друга. Но об этом дальше…
Глава шестая И барский гнев, и барская любовь…
Год сорок восьмой надвигался на Магадан, с мрачной неотвратимостью пробиваясь сквозь сумерки ледяного тумана, сквозь угрюмую озлобленность людей.
Бешеный заряд злобы несли на этот раз не столько заключенные и бывшие зэка, сколько вольные. Денежная реформа конца сорок седьмого года, пожалуй, больнее, чем по жителям любого другого угла страны, ударила по ним, но колымским конкистадорам, по здешним простым советским миллионерам. В верхней прослойке договорников отряды этих социалистических миллионеров были уже довольно значительны. Но даже и средние вольняшки, прожившие на Колыме несколько лет, насчитывали на своих сберкнижках сотни и сотни тысяч.
Все эти люди, привыкшие ощущать себя любимыми детьми советской власти, были оглушены обрушившимся на них ударом. Как! Поступить подобным образом с ними, с теми, кто составлял оплот режима в этом краю, населенном врагами народа! С теми, кто пережил здесь столько студеных зим, лишая свой организм витаминов!
Для многих эта реформа стала началом краха того иллюзорного мира, в котором они жили и который казался им так безупречно организованным. Мне запомнилась беседа с бывшим командиром тасканского взвода вохры. Я встретила этого «знакомого» на улице, по пути на работу, и он долго задерживал меня, чтобы я приняла на себя взрыв распиравших его словес. Ох и удивительные же это были словеса! Голос командира шипел, клокотал, захлебывался.