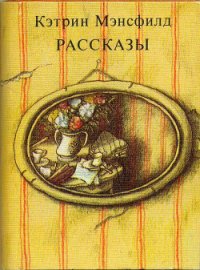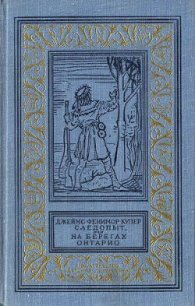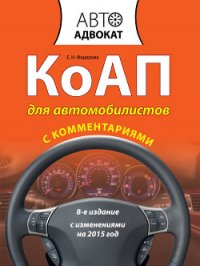Я исповедуюсь - Кабре Жауме (книги .TXT) 📗
Я встал, чтобы продемонстрировать твердость и придать вес своим словам. Но не успел я подняться, как уже раскаялся во всем, что наговорил, и в том, как повел дело. Тем не менее насмешливый взгляд Беренгера заставил меня двигаться дальше – со страхом, но продвигаться вперед.
– Лучше вам не говорить о моей матери. Я знаю, как она вас приструнила.
Я уже направился в прихожую и подумал, что мой визит оказался довольно дурацким: что он мне дал? Ничего не стало яснее. Я лишь объявил войну без особой уверенности, что хочу вести ее дальше. Но сеньор Беренгер, следуя за мной, вдруг помог мне:
– Мать твоя была на редкость вредной бабой, которая хотела отравить мне жизнь. В день ее смерти я открыл бутылку «Вдовы Клико». – Я чувствовал затылком дыхание Беренгера, пока мы шли в прихожую. – И отпиваю по глотку каждый день. Шампанское уже выдохлось, конечно, но зато я вспоминаю эту ссукину дочь сеньору Ардевол, чтоб ей пусто было! – Он вздохнул. – Как допью последний глоток, могу спокойно умирать.
Они наконец пришли в прихожую, и сеньор Беренгер встал перед ним. Он рукой показал, как будто пьет из бокала.
– Каждый день – оп! – глоточек. Отмечаю, что вредная баба померла, а я еще жив. Как ты можешь догадаться, Ардевол, твоя жена не передумает. Евреи так чувствительны к некоторым вещам…
Он открыл дверь.
– С твоим отцом можно было что-то обсуждать, он давал свободу действий ради пользы дела. А твоя мать была сволочь. Как все женщины, но особо зловредная. И я – оп! – по глоточку каждый день.
Адриа вышел на лестницу и обернулся, чтобы сказать в ответ что-нибудь достойное, например «вы дорого заплатите за эти оскорбления» или что-нибудь вроде того. Но вместо насмешливой улыбки сеньора Беренгера он увидел лакированную дверь, которую тот захлопнул у него перед носом.
В тот вечер дома в полном одиночестве я играл сонаты и партиты. Ноты мне были не нужны, несмотря на то что прошло столько лет, но вот пальцы требовались другие. И, исполняя вторую сонату, Адриа расплакался от полной тоски. В этот момент вошла вернувшаяся домой Сара. Увидя, что играю я, а не Бернат, она вышла, даже не поздоровавшись.
Моя сестра умерла через две недели после того разговора с сеньором Беренгером. Я даже не знал, что она больна, как и тогда про маму. Ее муж сказал мне, что об этом не знала ни она, ни вообще никто. Ей недавно исполнился семьдесят один год, и, хотя я ее давно не видел, даже в гробу она показалась мне элегантной женщиной. Адриа не понимал, что именно он испытывает: горе, безразличие, нечто странное; не знал, что переживает в этот момент. Его сейчас больше волновало недовольство Сары, нежели собственные чувства к Даниэле Амато де Карбонель, как говорилось о ней в некрологе.
Я не сказал ей: Сара, у меня умерла сестра. Когда Тито Карбонель позвонил мне, чтобы сообщить, что умерла его мать, я подумал, что он будет говорить про скрипку, и не сразу понял, в чем дело. А он сказал нечто совсем простое: прощание в морге на улице Кортс, если хочешь прийти, похороны завтра. Я повесил трубку и не сказал: Сара, у меня умерла сестра, потому что мне кажется, ты бы спросила: а у тебя есть сестра? А может быть, и ничего бы не спросила, потому что мы с тобой тогда не разговаривали.
В морге собралось много народу, а на кладбище Монжуика [383] нас было лишь человек двадцать. Из ниши [384] Даниэлы Амато открывался роскошный вид на море. Теперь ей это уже ни к чему, услышал я чей-то голос за спиной, когда рабочие запечатывали нишу. Сесилии на похоронах не было, – может, ей не сказали, а может, она уже умерла. Сеньор Беренгер делал вид, что не замечает меня. Тито Карбонель держался рядом с ним, словно устанавливая границу. Как мне показалось, единственный, кого эта смерть ошеломила и огорчила, был Албер Карбонель, который оказался в роли вдовца, не успев свыкнуться с мыслью о нежданно свалившемся одиночестве. Адриа видел его лишь пару раз в жизни, но сейчас тяжело было смотреть на этого безутешного человека, постаревшего на глазах. Когда мы спускались по широким аллеям кладбища, Албер Карбонель подошел ко мне, взял под руку и сказал: спасибо, что пришел.
– А как же иначе. Так жаль…
– Спасибо. Может, только тебе и грустно. Остальные уже считают деньги.
Мы замолчали. И пока шли к машинам, слышались шарканье ног по земле, чьи-то приглушенные реплики на ухо, высказанное вслух недовольство барселонской жарой, сдавленные покашливания. И тут, словно пользуясь случаем, Албер Карбонель очень тихо сказал мне: берегись этого проныры Беренгера.
– Он работал у Даниэлы в магазине?
– Два месяца. А потом Даниэла его выгнала. С тех пор они смертельно ненавидели друг друга и не упускали случая друг другу об этом напомнить.
Он помолчал, как будто ему было трудно идти и одновременно разговаривать. Я смутно припомнил, что он, кажется, астматик. А может, я это придумал. Но он продолжил, говоря: Беренгер – жулик, он – больной.
– В каком смысле?
– В прямом: у него не все в порядке с головой. И он ненавидит женщин. Не может допустить, чтобы хоть одна женщина была умнее его. Или чтобы решила что-то вместо него. Это его задевает и грызет изнутри. Смотри, как бы он не сделал тебе какой-нибудь гадости.
– Вы хотите сказать, что он на это способен?
– От Беренгера всего можно ждать.
Мы распрощались у машины Тито. Пожали друг другу руки, и Албер сказал мне: береги себя. Даниэла не раз говорила о тебе с теплым чувством. Жаль, что вы перестали общаться.
– В детстве я однажды целый день был в нее влюблен.
Я сказал это, когда Албер уже садился в машину, и не знаю, слышал ли он меня. Уже из машины он слегка помахал мне рукой на прощание. Больше я его никогда не видел. Не знаю, жив ли он еще.
Только на полпути к дому, размышляя, должен ли я с тобой поговорить или нет, в плотном потоке машин около памятника Колумбу, вокруг которого толпились и фотографировались туристы, я вдруг осознал, что Албер Карбонель – первый, кто не называл Беренгера «сеньор Беренгер».
Когда я открыл входную дверь, Сара могла бы меня спросить: где ты был? – а я – ответить: на похоронах сестры. А она могла бы сказать: у тебя разве есть сестра? А я – ответить: да, сводная. А она: ты мог бы мне сказать об этом. А я: так ты ведь меня не спрашивала, а мы с ней почти не общались. А почему ты сегодня не сказал мне, что она умерла? Потому что пришлось бы упомянуть твоего друга Тито Карбонеля, который хочет у меня украсть скрипку, и мы бы опять поругались. Но когда я открыл входную дверь, ты не спросила меня: где ты был? – и я не смог ответить: на похоронах сестры, а ты не смогла спросить: у тебя разве есть сестра? Тут я заметил, что в прихожей стоит твоя дорожная сумка. Адриа посмотрел на нее с удивлением.
– Я уезжаю в Кадакес, – сказала Сара.
– Я с тобой.
– Нет.
Она вышла без всяких объяснений. Все произошло так стремительно, что я не успел осознать, насколько это важно для нас обоих. Оставшись один, Адриа, все еще ничего не понимая, в испуге открыл шкафы Сары и вздохнул с облегчением: ее вещи были на месте. Я решил, что ты, наверно, взяла с собой только несколько комплектов одежды.
Так как Адриа совершенно не понимал, что ему делать, он не делал ничего. Сара опять его бросила. Но на сей раз он знал почему. И сбежала она ненадолго. Ненадолго ли? Чтобы не думать об этом, он рьяно принялся за работу, но не так-то просто оказалось сосредоточиться на том, что должно было стать окончательным вариантом книги «Льюль, Вико, Берлин – три способа философствовать». Книги с не слишком удачным названием, работать над которой было совершенно необходимо, чтобы отойти от «Истории европейской мысли», угнетавшей его, возможно, потому, что этой работе было отдано столько лет, возможно, потому, что с ней было связано столько надежд, а возможно, потому, что на нее откликнулись те, кем он восхищался… Единство новой книге придавала среди прочего концепция исторического будущего. Адриа переписал заново все три эссе. Он работал над ними уже несколько месяцев. Я взялся писать их, любимая, после того как увидел по телевидению ужасающие кадры, на которых было здание в Оклахома-Сити, его разворотило бомбой, брошенной Тимоти Маквеем [385]. Я ничего не сказал тебе об этом, потому что такие вещи лучше сначала написать, а потом говорить о них, если будет уместно. Я взялся писать, так как всегда думал, что те, кто убивает во имя чего-либо, не имеют права пачкать историю. Сто шестьдесят восемь человек, умерших по вине Тимоти Маквея. А тысячи убитых горем людей статистика не учитывает. Во имя чего эта непреклонность, Тимоти? И сам не знаю почему, но я представил себе, как еще один непреклонный человек – только его непреклонность была иного рода – спрашивает: зачем же уничтожать, Тимоти, если Бог есть Любовь?
383
Монжуик – район Барселоны, расположенный на горе у моря.
384
В Каталонии захоронения производятся не в землю, а в ниши, расположенные друг над другом, которые напоминают систему, принятую в крематориях.
385
Тимоти Маквей (1968–2001) – резервист армии США, ветеран войны в Персидском заливе, организатор самого крупного (до событий 11 сентября 2001 г.) террористического акта в истории Америки – взрыва в федеральном здании им. Альфреда Марра в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 г.