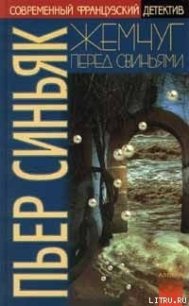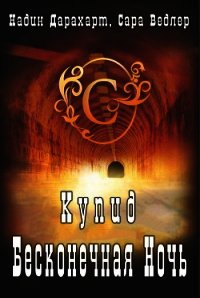Клиентка - Ассулин Пьер (мир бесплатных книг .txt) 📗
Удивившись, но не растерявшись, женщина открыла сумочку и протянула мне, как я и ожидал, блок из четырех фотографий, сделанных в супермаркете.
— Знаешь, что придумала компания фотоавтоматов в сорок первом году? Она предложила свои услуги немецким властям, чтобы помочь им быстрее провести регистрацию евреев. Превосходная идея! Компания ссылалась на свой опыт, знания и ресурсы, чтобы завоевать рынок. Я полагаю, что ты никогда больше не станешь фотографироваться у этих предателей…
Активистка взяла снимки и с досадой, не говоря ни слова, убрала их в свою сумку, испещренную монограммами. Она была в моей власти, и я не собирался оставлять ее в покое.
— А твоя сумочка! Ах, что за чудесная, такая шикарная сумочка! Известно ли тебе, что владелец этой замечательной фирмы…
Я осекся, встретившись взглядом с нашим дядюшкой. Ему не пришлось повышать голос. Весь его вид говорил: «Хватит!», призывая меня проявлять сдержанность, которой мне вообще не следовало изменять. Между тем я не хотел никого обидеть. Я намеревался только припереть спорщиков к стенке, опровергнуть их доводы, загнать их в тупик, чтобы они столкнулись с собственными противоречиями и поняли, насколько абсурдна их позиция. Не будь нравственные принципы моих родственников такими гибкими, зависящими от их сиюминутных интересов, они бы объявили бойкот не тому или иному товару, а всей Франции. Ведь в глубине души они таили обиду именно на Францию. Гитлеровская Германия, по крайней мере, играла в открытую. Она не предавала их, в то время как Франция, позволившая государству отречься от Республики, продала свою душу дьяволу, никого не известив об этом заранее.
Я упал в глазах окружающих. За мою злонамеренность, проистекавшую от смешения двух времен, в которой проглядывали явная склонность к подстрекательству и определенное пристрастие к парадоксам, меня удалили с игрового поля. Франсуа Фешнер сопереживал мне издали. Нас разделяло пространство длинного стола. С обоюдного молчаливого согласия мы сократили это расстояние.
Я уже не помню, кто из нас придвинулся к другому. Франсуа сразу же заговорил со мной о нашем деле — единственном, что нас интересовало.
— Твоя история меня раздавила, — тихо произнес он.
— Это не моя, а твоя история.
— Верно, — признал он. — Ты говорил об этом кому-нибудь еще?
— Нет. А ты?
— Никому.
Франсуа наблюдал за мной, в то время как я протягивал свой бокал его отцу, исполнявшему в тот вечер обязанности виночерпия. Мы смотрели, как он удаляется с бутылкой марго в руке, а затем Франсуа повернулся ко мне с легкой, не лишенной злорадства улыбкой.
— Ты не спросишь меня, кто она?
Друг понимал, что я жаждал узнать, что представляет из себя эта клиентка. Он подозревал, что я не решаюсь об этом спросить. Что меня удерживает старомодная учтивость. Что я сгораю от нетерпения и умираю от непомерного любопытства, предпочитая страдать, нежели допустить по отношению к нему бестактность, хотя, как правило, во время моих биографических изысканий я не церемонился ни с кем.
— Она почти ровесница отца, ей лет семьдесят пять… — Франсуа отпил немного вина, очевидно, чтобы удалить из горла комок, мешавший ему говорить. Затем он продолжал более уверенным тоном:
— Она — цветочница. Ее дочь сменила мать в магазине тогда же, когда я сменил отца. Но, как и мы, они по-прежнему работают вместе. Ты же знаешь эту породу лавочников, готовых умереть на своем посту, ведь они всегда только и делали, что торговали, из поколения в поколение. Вот и все.
Умышленно ли Франсуа умолчал об одной детали или по причине волнения? Как бы то ни было, он позабыл о том, что казалось мне самым главным.
— Ты не сказал, где находится их магазин?
— Улица Конвента, дом пятьдесят два.
— Но это же…
Друг не дал мне времени подумать. Или ошибиться. Или показать, какой я догадливый.
— Это как раз напротив нашего магазина. Я вижу, как утром они открывают, а вечером закрывают лавку. Наши семьи поддерживают превосходные добрососедские отношения на протяжении трех поколений. И… — Франсуа ненадолго прервал свой рассказ, когда один из его сыновей явился просить разрешения включить телевизор. Когда мальчик ушел, он продолжал, время от времени поворачиваясь к буфетной стойке:
— …И нет никакой причины ссориться. Видишь этот букет в вазе, я сегодня купил его у той самой клиентки. Она одевается у нас, а мы берем у нее цветы.
— Но ты все-таки ей сказал?
— Нет.
— Значит, еще скажешь?
Друг посмотрел на меня хмуро, насупив брови. Он встал и принялся расхаживать по комнате, словно его одолел нервный зуд. Несколько мгновений спустя он вернулся к столу, из-за которого я не вставал. Не садясь, Франсуа наклонился к моему уху и тихо заговорил:
— После твоего звонка я был вне себя. Я пошел в магазин к клиентке. Она была одна. Я бы с удовольствием ее задушил. Думаю, это было видно. Я молча смотрел на нее в упор несколько минут, которые наверняка показались ей вечностью. Сначала соседка прикинулась удивленной. Но по мере того как мой опыт продолжался, она перестала притворяться. Я прочел в ее взгляде целую жизнь. Я увидел в нем ее преступление. Затем она опустила глаза.
— А потом?
— Теперь она знает, что я знаю. Не расплатившись за свою вину, эта женщина обрекла себя на то, чтобы жить с ней до гробовой доски. Вина или грех, называй это, как хочешь. Ее душа никогда не будет такой спокойной, как моя. Она сама вынесла себе приговор. Для меня вопрос закрыт.
Франсуа Фешнер не желал больше ничего знать. В сущности, он рассчитывал избежать каких бы то ни было разоблачений, способных изменить привычный порядок вещей. С одной-единственной целью: избавить отца от всяких призраков постыдного прошлого. Мало сказать, что мой друг оберегал старика. Он возвел вокруг его памяти плотину. Время от времени, когда в теленовостях упоминали о каком-нибудь судебном процессе или происшествии, связанном с оккупацией, это сооружение давало течь. Тогда Франсуа латал дыры, и все возвращалось на круги своя.
Между тем отец ни о чем его не просил. Даже с глазу на глаз они не говорили о прошлом. Но мой друг истолковал молчание старика именно так. Тот не хотел прояснить мрак своей жизни.
Франсуа передал мне зловонную эстафету. Я был волен продолжать погоню до финиша либо окончательно положить ей конец. «У тебя есть выбор!» — бросил мне в тот вечер друг на прощание после торжества. Он произнес это не с вызовом, а скорее с сожалением. Франсуа сбросил с себя тяжкую ношу. Как мне следовало с ней поступить? Время для треволнений, самоанализа и пересмотра позиций уже прошло. Я выбросил все это из головы, ибо в голове это не укладывалось. Я уже больше не раздумывал, вправе ли я снова вторгаться в чужую тайну и на каком основании.
Мне хотелось знать. Я должен был все выяснить. Я бы никогда не простил себе, если бы, узрев абсолютное зло, закрыл на это глаза. Не важно, что у зла не было имени. В моих силах было удержать это мимолетное видение. Либо разбавлять его до тех пор, пока от него не остался бы бесформенный осадок.
Порой мое наваждение доходило до галлюцинаций. Я твердил об одном и том же: надо исследовать самые мрачные уголки теневой стороны человеческой души. Я снова мысленно проигрывал сцену, о которой поведал мне Франсуа. Представлял, как мой друг смотрит на эту женщину в упор, так пристально, что его взгляд перетекает в ее взгляд до тех пор, пока не гасит его.
В моем сознании не возникало вопроса о возмездии. Мне было все равно, понесет доносчица наказание или нет. Я не обладал душой полицейского осведомителя или прокурора. Ни тем более совестью поборника справедливости. Я слышал голоса, раздававшиеся со всех сторон: настала пора прощения, время покаяния уже прошло… Но кем я был, чтобы прощать? Только жертвы были бы вправе отпускать грехи. Но их уже не было в этом мире, и они не могли воспользоваться своим правом. Они не предоставляли мне никаких полномочий.