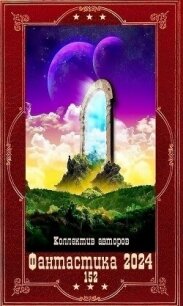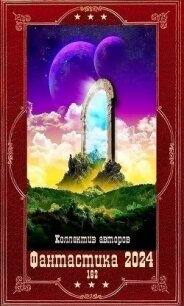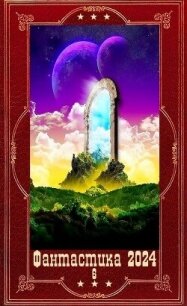Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Как и некоторые другие бабушкины письма, это письмо заставляет меня чувствовать себя беззастенчивым соглядатаем. И я не знаю, улыбаться мне или испытывать тихий шок, когда пытаюсь себе представить, как она стояла вне себя на пристани Фишкилл, задыхалась, рвала на себе волосы, кружевной воротник был опущен, чтобы сделать приятное ее девочке, на исступленной груди трепетала вянущая роза. Если строить догадки, рискну предположить, что ни Томас, ни мой дедушка никогда не поднимали такую бурю в ее груди.
Этот эпизод, однако, знаменует собой поворотный момент, выявивший силу бабушкиного характера, которой я не могу не восхищаться. Именно тогда, очень похоже, она отказалась от каких бы то ни было преимущественных прав и на Огасту, и на Томаса. Любовный прилив, о котором вели речь эти романтически настроенные девушки, былой полноты уже не достигнет. После неспокойного лета Сюзан рассталась с некой возможностью; и когда месяц спустя Огаста и Томас сообщили ей о своей помолвке, она приняла это известие бодро. У меня есть записка, которую она написала Томасу.
Известно ли Вам, сэр, что, пока Вы не явились, она любила меня почти так же, как девицы любят своих возлюбленных? Я точно знаю, что сама любила ее именно так. Вам не странно, что я выношу Ваше присутствие? Я не знаю другого мужчины, с которым это выглядело бы как должное. Вы, очевидно, были рождены придать ее будущему полноту, а она была рождена возжечь Ваш Гений. Разве не чудо, что он так вспыхнул от ее прикосновения? Он существовал, но так, как существуют нерожденные кристаллы…
Отлично, бабушка. Великодушные слова. Возможно, твои теперешние чувства и твое умение достойно проигрывать были заимствованы из романов, но они оказались долговечны, они сработали. С той поры ты была Томасу любящей сестрой, Огасте – лучшей подругой, без экивоков. Ни им, ни кому бы то ни было еще ты ни разу не призналась, что разочарована, что чувствуешь себя кем‑то преданной. Ты потому, подозреваю, так владела собой, что, по удачному стечению обстоятельств, как раз тогда получила возможность взглянуть на свою перевернутую карту. Флеш-рояль, на который ты надеялась, не состоялся, ты не получила туза, но в последнюю минуту эта закрытая девятка обеспечила тебе стрит с королем.
Через два дня после того, как она узнала о помолвке Огасты и Томаса, Оливер Уорд написал, что едет домой с Запада.
Он приехал к ней в Милтон поздним вечером, в сильный дождь. Она и ее зять Джон Грант ждали на пристани под навесом, глядя, как отделяются от огней на стороне Покипси и медленно ползут к ним по реке три тусклых огня парома. Фонарь зятя отсвечивал в лужах жидкой желтизной, еще один фонарь на конце пристани бросал полосу света на движущуюся реку, которую поминутно тревожили порывы ветра. Кожа Сюзан, подозреваю, была как река: ее холодили порывы неизвестности, по ней шли мурашки опасливого ожидания. Она знала о его намерениях, он ее предупредил.
Что чувствовала девушка в 1873 году, ожидая незнакомца, которого она никогда не принимала совсем уж всерьез, но за которого сейчас, внутри себя, наполовину согласилась выйти замуж? Встрече был присущ весь драматизм ее самых романтических рисунков: отблески фонаря на дождевике паромщика, высокая фигура с ковровым саквояжем соскакивает на берег. Как Оливер одет? Во что‑то обширное, в плащ или пальто с капюшоном, из‑за чего он похож на заговорщика из оперы. От фонаря паромщика на доски пристани легла его громадная тень. Сюзан побаивалась взглянуть ему в лицо: может быть, он совсем не такой, каким она его помнит? Вот он подошел к ним, откидывает капюшон, берет ее руку своей большой мокрой ладонью, здоровается, что‑то говорит и, не переводя дыхания, извиняется за этот балахон: это его полевая одежда, городское пальто украли в Сан-Франциско.
Его вид был приемлемо экзотическим, вид гостя из далеких мест, к которому надо осторожно присмотреться. И, присматриваясь, увидеть и близкое тоже, о чем давало знать высказанное в письмах между строк, а то и прямо им высказанное и не отвергнутое ею. Они втиснулись в коляску, где близость была физически им навязана. Промеж двоих мужчин в полной упаковке Сюзан едва могла шевельнуться. Ехали, отвернув лица от брызг и мрака, она вдыхала незнакомые запахи трубки и мокрой шерсти, говорила то, что следовало сказать, а немногословный зять помалкивал и слушал. Он вообще был склонен судить о людях критически. Она задавалась вопросом, как он оценивает этого молодого человека с Запада, если сравнивать его с писателями, художниками и редакторами, которых он возил с пристани последние четыре года.
Ее родители стояли в прихожей, встречали гостя, охали и ахали насчет погоды, и Сюзан после представлений – какая громадная застенчивость ее сковывала, как тяжел был груз невысказанного! – повела его наверх в его комнату, в ту, что в семье звалась бабушкиной. Там он опустил на пол свой ковровый саквояж, освободился от балахона, и она увидела, как он кладет на комод, где никогда не лежало ничего более серьезного, чем квакерский чепец или сборничек стихов в дряблой коже, кривую трубку и огромный револьвер с деревянной рукояткой.
Он сделал это намеренно? Думаю, да. Просто так мужчина, сватаясь к девушке, не стал бы извлекать на свет пистолет. За ним уже закрепилось амплуа человека с Запада, и утвердить себя на фоне литературной публики, с которой ее дом у него ассоциировался, он мог только таким способом.
Я не придаю этому большого значения, как и ее реакции на револьвер – ошеломил он ее, внушил уважение, шокировал или позабавил. Не это занимает мое воображение, а их нерешительность, когда они взглянули в дверях друг другу в лицо при свете лампы у нее в руке, их неловкая полуготовность подтвердить взаимопонимание. Тут мне опять приходят на ум ее рисунки – сюжетные, с боковым освещением, проникнутые возможностью.
Она быстро убедилась, что он достаточно приемлем в любой компании – в любой, где нет Огасты. Он выказывал полное восхищение ее талантом и полное уважение к ее друзьям и подругам, от него, такого крупного, исходила та же тишина, что в библиотеке на Бруклин-Хайтс, и у него была манера легко говорить о всяком разном, не убеждая ее, что он легко к этому относится. Он не был словоохотлив, но, если его разговорить, мог очаровать всех своими калифорнийскими историями. Ее родители слушали его допоздна – а ведь, когда приезжали ее нью-йоркские друзья, они рано уходили к себе спать. Он умел играть в шахматы – это обещало уютные вечера. Ее отец сказал, что первый раз видит мужчину, который может так быстро набрать корзину яблок. Стоило ему взяться за лодочные весла, как лодка из воды выскакивала.
Но она ломала себе голову, что ему показать поблизости. Длинный пруд и Черный пруд, которые нравились гостям из Нью-Йорка, вряд ли могли произвести впечатление на человека, повидавшего долину Йосемити и проехавшего верхом всю долину Сан-Хоакин сквозь необозримые поля диких цветов. Поэтому они с Бесси и Джоном повезли его на Большой пруд, восемь миль через лес, в дикое романтическое место, где поток водопадом низвергается в мраморный водоем, а оттуда сквозь череду уменьшающихся водоемов устремляется в озеро.
Там неизбывно царил дух Гудзонской живописной школы: коричневатый цвет, растрепанные ильмы, романтическая вода. Приехав, они сели на траву и обратили лица к природе. Когда перекусили, занялись тем, чем занимались на лоне природы поэты и философы в начальные годы пикчуреска [35]: прохаживались, собирали ранние осенние листья или позднюю горечавку. Сюзан немного порисовала, он в восхищении стоял рядом. Не обнимались, хотя Бесси стратегически отошла с мужем подальше, чтобы оставить их одних. Лишенные приемлемого способа прямо выразить свои чувства, они, вероятно, направили их на природу. Мне видится множество живых картин, где она заворожена красотой пламенеющего клена, а он стоит со шляпой в руке, благоговея перед чистотой ее восприимчивости.