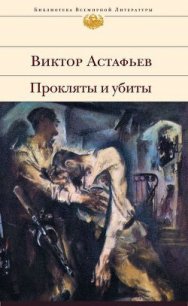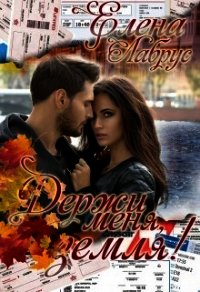Прокляты и убиты. Шедевр мировой литературы в одном томе - Астафьев Виктор Петрович (читать книги txt) 📗
Лешка нашаривал, нащупывал взглядом в темном земляном отверстии майора, отвалившегося на сырую стенку. Зарубин высунул из шалашика шинели голову, тусклый его взгляд, устремленный в пустоту, скорее угадывался, чем виделся. Взгляд майора погас – отвернулся он от своего солдата? Бело отсвечивало что-то – лицо или бинт – не разобрать. Наконец Лешка понял: майор, командир его и отец на все время военной жизни, предоставил солдату все решать самому, дав ему тем самым ответ – не судья он ему сейчас. Все пусть решает совесть и что-то еще такое, чему названия здесь, на краю жизни, нет.
– Ладно, не надрывайся, товарищ капитан, – устало сказал Лешка Одинцу и, сунув майору трубку, потопал к воде, отчего-то по-лошадиному мотая головой и как бы забыв про немецкий пулемет, пристрелянный к устью речки Черевинки.
«Ишь ты все какие! Ишь какие! Как кутенка – из мешка в воду, который выплывет, тот – собака. И майор тоже хорош… Да какой я ему друг-приятель? Я – его подчиненный, и Одинцу подчиненный. А до того начальника, что из штаба корпуса, как до Бога, – высоко и глухо».
Переправа, кровь и смерть отделили их ото всех смертных, подравняли, сблизили. Что ж заставило майора взять с собой на плацдарм именно его, Лешку Шестакова, который сам же и давал советы майору – выбирать надежных людей. А надежный – это значит тот, на кого можно надеяться. Всегда, во всем! Не на Сему же Прахова. Сочувствие, помощь друг другу, главное работа, которую они уже проделали, тяжкая, смертельная работа настолько сблизила их, что памяти этой хватит на всю жизнь. И вот войдет в эту память худенькое, сволочное. Ведь он майора втягивает как бы в сделку вступить, ложь сотворить, а она, эта ложь, угнетать будет не одного Лешку и наверняка уж сделает к нему отношение майора совершенно иным. Этаким вежливеньким, спокойно-холодным, как к Вяткину Ивану.
Пнув в войлочно-мягкий бок челна, Лешка, глядя на другой, туманной дымкой скрытый берег, отрешенно выдохнул:
– Я бы две звезды вам отдал…
Майор ворохнулся, нажал клапан трубки:
– Боец Шестаков приступил к выполнению ответственного задания.
– Все в порядке! Все в порядке! – восторженно подхватил за рекой Одинец, но майор оборвал его, сказав, что курортники-связисты из корпуса явятся налегке, надо набирать своей связи, привязывать к ней грузила и вообще помочь Шестакову всем, чем возможно. На каждое слово майора, вроде и опережая его приказания, Одинец угодливо твердил:
– Есть! Есть! Будет сделано!…
Опять к телефону потребовали бойца Шестакова. «Ну, прямо спрос, как на шептунью Соломенчиху в Шурышкарах!» – усмехнулся Лешка и услышал шлепающий голос комиссара Мусенка – готов ли он, боец Шестаков, к выполнению ответственного задания?
– Готов, готов! – резко отозвался Лешка на призыв военного тыловика, привычно распоряжающегося чужой жизнью.
– Вот и хорошо! Вот и правильно! Так и должны поступать советские бойцы! А вы – пререкаться…
– Да не пререкался я.
– По-вашему выходит, дивизионный комиссар говорит неправду? Так выходит? – построжел Мусенок. – Одинец! Не слишком ли разговорчивы у тебя бойцы?
Но выполняя задание Зарубина, начальник штаба полка Понайотов, на дух не принимающий важного политрука, оборвал его – по линии идет непрерывная боевая работа.
– Извините! – вежливо заключил Понайотов.
– Пожалуйста, пожалуйста! Я уже кончил, – бодренько, как ни в чем не бывало, откликнулся Мусенок и передал трубку дежурному телефонисту, укладываясь досыпать в своем, должно быть, сухоньком, с печуркой, блиндаже. Залезая под чистую шинельку, может, и под одеяльце. На столике у него, среди недочитанных газет, недопитый стакан с чаем, табачок «золотое руно» запахи извергает, может, и машинистка Изольда Казимировна Холедысская под боком. Уют, одним словом, соответствующий должности.
У печурочки клюет носом шофер, этакий толстобокий, опрятный дядька по фамилии Брыкин, люто ненавидящий своего начальника и презирающий машинистку Изольду Казимировну, которая печатает-то вовсе не машинкой. Кровей в этой труженице фронта намешано много, и она, не глядя на чин, кусает, можно сказать, загрызает начальника своего, жарко повторяя: «Зацалуе пши спотканю! Зацалуе пши спотканю».
«Ну, ничего-то человек не понимает. Никакой войны для него нет», – горестно возмущался начальник штаба Понайотов, угрюмо спрашивая у Шестакова – доплывет ли?
– Туда-то, к вам-то я доплыву, с радостью. А вот обратно?… С грузом? Как только приедут связисты из большого хозяйства, пусть наши всю связь у них проверят. Провод должен быть трофейный, иначе тянуть коня за хвост незачем.
– Да вон слышно, Одинец орет на всю родную Украину, значит, действует. Как там Зарубин?
– Товарищ майор-то? Зарылся в землю.
– Не сможешь ли ты его…
– Попытаюсь… Но лодка-то, лодка…
– Дай сюда трубку! – вдруг выкинул руку из ямы майор. – Ты вот что, Понайотов, если хочешь мне и всем нам помочь, позаботься о снарядах. А филантропией не занимайся. Я могу уйти отсюда только после того, как ты или кто из комбатов… И все! И нечего! Мы и без того все тут жалости достойны… Божьей. – И, гася в себе вспышку раздражительности, мягче добавил: – С Шестаковым отправь записку… Все, чего нельзя сказать по проводам…
– Ясно. – Понайотов посчитал, что так вот, сухо, никчемно разговор заканчивать неловко и ляпнул: – Отдыхайте.
Вычерпывая воду из челна, поднятого на берег, кося глазом на нишу, на дрожащего в ней майора Зарубина, обметанного седеющей щетиной, Лешка подумал, что не доводилось ему видеть майора небритым. И не знал Лешка, что голова у него уже наполовину седая, здесь, на плацдарме, он и начал седеть.
– И правда, плыли бы вы со мной, товарищ майор. Чего уж там… – отвернувшись, сглаживая вину и опустив глаза, произнес Лешка. – Может, Бог нам поможет. Коля Рындин говорил – Он завсегда болезных жалеет…
– Делайте, что пообещались делать. Выполняйте задание! – вдруг сорвался на крик Зарубин и, услышав себя, упятился в свою обжитую берлогу, и уже в нос, для себя, выстанывая, – а я буду делать, что мне положено… Дьячки кругом, понимаете!…
На другой стороне реки Понайотов, ляпнувший обидное слово, можно сказать, издевательское для гибнущих людей, стоял, нависнув над телефонистом, стиснув трубку в кулаке. До него донесся уютный посвист, сопровождаемый глубоким, умиротворенным сопением, – телефонист, возле которого работал, говорил какие-то слова непосредственный его командир, спал. В открытую спал. Понайотов изо всей-то силушки завез телефонисту трубкой по башке.
– Река слушает! – подпрыгнув, заорал с перепугу связист.
– На плацдарм бы тебя! Выспался бы!
Осторожно скребя по дну лодки плоской банкой из-под американской колбасы, излаженной вроде совка, Лешка вычерпал воду, мокрые доски на средних поперечинах, по-моряцки – шпангоутах, проверил – корыто разваливалось, и все же перевалил через борт раненого, который подполз к воде из-под яра и по-собачьи глядел в глаза Шестакова. Раненый замычал и успокоенно скорчился на мокрых досках.
«Везуч ты, славянин, ох, везуч! – усмехнулся Лешка и зашагнул в лодку. – Может, и мне потом повезет…»
– Может, еды и бинтов приплавлю, – крикнул от воды Лешка.
– Себя приплавь! – раздалось в ответ.
Связав обмоткой весла, чтобы можно было одной рукой грести, другой вычерпывать воду, с раненым на борту, который от сознания, что теперь спасен, сбросив напряженье, впал в беспамятство, Лешка украдкой отплыл от берега и по мере удаления из-под укрытия высокого рыжего яра все ощутимей чувствовал, как кровь отливала от лица и не на коже, под кожей щек нарастает щетина, колясь изнутри. Выплыв из тени, за мутную полосу воды – это с острова, из протоки да с разбитого берега тащило ночным дождем грязь и муть, одинокий пловец на челне сделал то, что веками делали одинокие пловцы:
– Господи! – едва слышно попросил. – Господи! Если Ты есть – помоги мне! Нам помоги! – поправился он, вспомнив про бедолагу раненого, упорно памятуя, что Бог – защитник всех страждущих… «А-а, про Бога вспомнил! – злорадно укорил он себя. – Все нынче о Нем вспомнили, все… Припекло! Сюда бы вот атеистов-засранцев, на курсы переквалификации»…