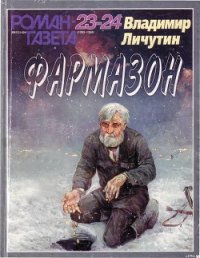Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
Паша, ну зачем тебе туманиться, лучше оглянись окрест открытыми для чужого несчастья глазами, и ты увидишь, как тяжко на свете живут люди, убиваясь ради куска хлеба насущного, какие нестерпимые горя носят за плечами, сколько смертей неубыточно гуляет по земле, подбирая за собою молодых и разовых, кому бы жить да жить, – так что значат перед людскими страданиями твои мелкие неудачи... Жизнь прекрасна, Павел Петрович, ты всем хорош, тебя все любят и с нетерпением ждут ободряющего совета, ты умный, может, самый умный на свете...»
Что ни делается, все к лучшему... Но почему мы, русские, не можем успокоиться, умириться, подпасть под власть течения и покорно плыть в нем; к нам – удача в дом, все хорошее сыплется, как из рога изобилия, а мы в томлении и испуге, дескать, все это не к добру, и отчего-то ждем с каждым днем неприятностей, и от этого праздника жизни устаем; к нам толпою – горя в дом, и мы топыримся от них, напрягаемся из последнего, чтобы не рухнуть окончательно, и в этих борениях приободряемся, внутренне крепнем, выпрямляемся взором, мечтая о солнце в дом и полагая, что нет худа без добра; и вот оно наконец ударило слепящим лучом в стекло, и нам бы обрадеть, отогреть душу, возгордясь собою, а мы снова упадаем в непонятную тоску, похожую на ожидание неизбежной беды, вместо того чтобы ковать успех, пока он горячий...
Да все оттого, наверное, что в основании русской души – идеализм и наивное ожидание совершенства, оттого совесть – наш постоянный судья, с упорством преследующий в каждую минуту и не дающий беспечного отдыха. Однажды, в какие-то веки, подпавши под власть Совести, мы уже никогда, наверное, не уверимся в крепости всего земного, вещественного, полагая его за бренное, ветхое, ненадежное, на что нельзя положиться с полной верою, полагая, что зачем копить, коли все сгниет когда-то, превратится в прах, труху и, значит, не может быть положено в основание счастия земного дома, ибо где-то раскорячится и даст по лбу, где-то объедет на кривой иль подставит подножку, надсмеется иль сыграет злую шутку, и лишь то совершенно, благодатно и отзывчиво, что обещано в давних летах свыше, и пусть не исполнялось никогда, похожее на златые горы занебесных миражей, но никогда же и не отказано оттуда. А значит, все еще может исполниться, и впереди лучше, чем нынче. Отсюда – достоинства русской натуры, ее нестяжательность, умение обходиться малым, долготерпение. Мы похожи на того древнерусского воина, что, отправляясь в долгий поход, брал с собою лишь малую торбочку, куда влезал складенек, кусок вяленого мяса, немного пашенца и соли в тряпичке. Но здесь – и слабости наши, ибо человек, не верующий в надежность земного мира, никогда не станет пестовать, умащивать его, терпеливо воздвигать крепостцу для своей родовы, как ласточка вылепливает гнездо под застрехою дома, скрепляя его своим соком. Словно бы мы всегда готовы перепоясаться, притопнуть сапожишком и уйти навсегда за порог своей избы, покинув нажитое...
В основании же европейской души – угождение плотскому, рассудочность, практицизм, делание вещей, устроение быта, умощение дома во всех мелочах, чтобы он заслонял от немилосердной природы. Европейский человек, возгордясь, удалился от тварного мира, от своих сородичей, встал под солнцем от всех наособинку, полагая, что все на земле принадлежит лишь ему, и, увы, оказался совершенно беззащитен...
...Откуда-то вдруг взялись длинные, до горизонта, гостевые столы на зеленом лугу о край ольховника, обильно уставленные золотистыми жареными цыплаками, истекающими жиром; прогонистые, с хрящеватыми спинами копченые рыбы с гранатовыми выпуклыми глазами и фарфоровыми зубами, словно плывут по накрахмаленным скатертям, ловко проскальзывая боками меж хрустальных бокалов; тут из одной рыбьей головизны проросла восковая лилия, на лепестке, будто росяная дрожащая капля, мостится, свесив ножонки, крохотный человечек с каким-то костяным испуганным личиком, по которому скользят, как на деревенских гиревых часах, сапфировые выпуклые глаза. Мужичок, похожий на сказочного гномика и в то же время напоминающий российского президента, грозит кому-то пальцем и скрипуче выговаривает дребезжащим заискивающим голосишком: «Вы знаете, мы не позволим прорасти в России дремучему шовинизму... Я очень... я очень, – гномик замялся, засуетился заднюшкою по гладкому лепестку и чуть не сверзился вниз, – да, я очень не люблю национализма. Он мне противен. Если кто хочет разрушить государство, пусть любит... Пожалуйста. Но тогда мы их со всей суровостью...» И гномик сунул в рот розовую шпикачку, похожую на свиной хвостик, отбитый от глиняной копилки.
Тут в ольховнике, в темном непролазном овраге, где обычно живут змеи и разбойники, загремели литавры, завыли трубы, ударили победные барабаны, загнусавили сопелки и дуделки, и гномик с обличьем господина Фарафонова, вылезши из пасти рыбы-фиш, цепко, как ящерка, пополз по стеблю лилии, чтобы прикоснуться к ступне господина.
Я, нагнувшись по-над столом подобно Гулливеру, подставил под зад Фарафонову давно не стриженный ноготь, чтобы подстраховать бесстрашного человечка, и тут с небес раздался малиновый звон; я даже разглядел колыхающийся длинный бархатный шнур с малиновой кистью, спущенный к гостевому столу, который сам по себе шатнул бронзовый колоколец, подвешенный к белояровому облаку. «О чем-то он возвещает? – туго подумал я, отвлекаясь от рыбы-фиш и мертвого цветка, по которому усердно взбирался к земному богу мой безунывный друг Фарафонов. – И как может гуделка, размерами куда больше Царь-колокола, держаться за ничто?»
«Я не буду, я не стану!» – кричал Фарафонов... «Нет, ты будешь, нет, ты станешь?..» – надрывно, угрозливо возражал в ответ небесный колокол, раскачиваясь все пуще и пригибая долу ольховники, выворачивая их листву изнанкою.
Я вдруг очнулся от сна и нашел себя на балконе: значит, спал стоя, как старая лошадь. Татьяна Кутюрье, перегнувшись через перильце, протягивала мне желтый, регланом, макинтош с кожаными лямками за плечами, со шнуровкою в рассохе, с бронзовыми бляхами вместо пуговиц, на которых была вычеканена круглая голова московского градоначальника, похоже, только что с трудом покинувшего обильную трапезу.
– Павел Петрович, я вам звоню, а вы не открываете. Пошла на балкон узнать, что с вами, а вы тут, – едва шевелила женщина сизыми от стужи губами. – Примерьте одежду, это для вас. Скоро полетим... Слышите, зовут? Уже зовут небесные колокола! Не вы ли говорили нам, Павел Петрович: «Если ты не идешь к Богу, то Бог придет к тебе». Примерьте... Впору, нет?
Я принял подарок, но тут с противным скрипом подалась балконная дверь, словно в квартиру, создав сквозняк, влезли непрошеные гости и уже шарятся по углам.
– Эй, кто там? – с испугом крикнул я... и проснулся.
В прихожей кто-то потаенно шевелился, будто воровски стягивали с вешалки мой поношенный лапсердак и кроличью шапенку, годные разве что для бомжа и музея.
– Эй, кто там? – уже в яви позвал я и спустил с дивана ноги, слепо нашаривая древние шлепанцы. В ушах выли сопелки и наяривали гуделки, не хватало только для полного веселья деревянных ложек и деревенской топотухи. Значит, давление разыгралось, кровь на сердце стопорит и бунтует. Вот так засну когда-нибудь и не проснусь, и кружка воды не понадобится.
– Это я, Таня! Иду по коридору, двери нараспах. Павел Петрович, вы не боитесь, что вас унесут? – Татьяна остановилась на пороге прихожей, вперив из полумрака лихорадочно блестящие глаза, зябко обняв руками острые плечи. – Что вы на меня так смотрите? Иль никогда не видали?
– А где ваш подарок? Иль мне почудилось?
– Какой подарок, Павел Петрович? Вы от меня ждали подарка?
– Ну как же... Я только что примерял на балконе желтый макинтош с лямками за плечами. Вы сказали, что пора лететь, что Бог ждет нас.
– И ничего я вам не дарила. Вы меня разыгрываете? Мы только что разругались с мужем.
– Значит, был сон... Какой странный сон. Вы одели меня как ангела... Значит, ждут в Кащенко... – торопливо добавил я потухшим голосом, сводя все к шутке. – Вы знаете, что все гениальные люди кончают жизнь в смирительном доме? – усмехнулся я над собою, словно бы ворожил судьбу.