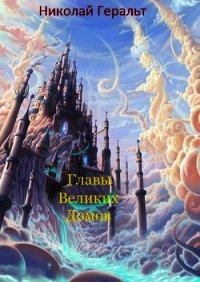Дом, в котором... - Петросян Мариам (читаем книги онлайн бесплатно txt) 📗
Русалка соскакивает со стола и подбегает ко мне, позвякивая колокольчиками в волосах.
— Ты не веришь? Но это правда совсем ничье.
Русалка мне нравится. Она похожа на котенка. Не открыточного пушистика, а бездомного, тощего, с невозможно красивыми глазами. Таких подбираешь, даже если они к тебе не лезут.
И я говорю — конечно, я верю, верю, что все, что вы здесь насобирали, совсем ничье, никому не принадлежит, и, конечно, это удивительно и странно находить такие вот вещи, я только не понимаю, зачем это нужно.
Табаки глядит на меня чуть ли не с жалостью.
— Понимаешь, — говорит он, — жизнь не течет по прямой. Она — как расходящиеся по воде круги. На каждом круге повторяются старые истории, чуть изменившись, но никто этого не замечает. Никто не узнает их. Принято думать, что время, в котором ты, — новенькое, с иголочки, только что вытканное. А в природе всегда повторяется один и тот же узор. Их на самом деле совсем не много, этих узоров.
— Но при чем здесь это старье?
Он обиженно вздыхает.
— При том, что море, например, всегда выбрасывает на берег одно и то же, и всегда разное. Если при тебе приплыл сучок, это еще не значит, что в прошлый раз не было ракушки. Поэтому умный соберет все в кучку, добавит в нее то, что собрано другими, а потом рассказы о том, что приплывало в старые времена. И будет знать, что приносит море.
Табаки не издевается. Он абсолютно серьезен. Но звучит все сказанное как бред сумасшедшего. Русалка слушает его, широко распахнув глаза, светясь от восторга. Я думаю о том, какой она, в сущности, ребенок, и о том, что сам Табаки — тоже порядочный младенец.
— Это ничьи вещи, — настойчиво повторяет Табаки. — У них нет хозяина. Но для чего-то же они пролежали по углам потерянными столько времени? Для чего-то вдруг нашлись? Может, в них спрятано какое-то волшебство. Вокруг нас разбросаны ответы на любые вопросы, надо только суметь отыскать их. Начавший искать становится охотником.
Солнце бьет в оконные стекла. Прищурившись, гляжу в окно. Будь Табаки один, мне было бы легче, но их, свихнувшихся охотников за старьем, двое, и второй — девчонка, которая любит сказки. Поэтому я говорю только:
— Все это ужасно интересно. Я не совсем понял, но, наверное, все так и есть, как ты говоришь.
На лбу у Русалки появляются две морщинки. Беленькие, почти незаметные. А Табаки съеживается.
— Вот только не надо нас жалеть, — говорит Русалка. — Мы ведь не для того тебя позвали, чтобы ты нас жалел.
Бросаю прощальный взгляд на охотничьи трофеи Шакала и выезжаю из класса. Кажется, мы поссорились.
Полчаса я трачу на поиски своего дневника. Тетради нигде не видно. Я проверяю ящики стола и книжные полки, заглядываю в тумбочки, слезаю на пол и заглядываю под кровати, но его нет и там. Наконец, спрашиваю Македонского.
— Такая толстая коричневая тетрадь? — уточняет он. — Вроде я ее где-то видел.
Он подходит к ящику Толстого, склоняется над ним, и говорит:
— Ну вот… опять запасается топливом. Отдай эту штуку, слышишь, эй! Она чужая.
Толстый отвечает невнятным гульканьем. Македонский поворачивается ко мне с дневником в руках, вытирает его и говорит виновато:
— Он его слегка ободрал, ничего? Это я не проследил. Надо было проверить, чем он там шелестит.
Я принимаю изуродованный дневник. Переплет весь изжеван, половина страниц вырвана. К счастью, незаполненных. Толстый начал с конца.
— Спасибо, — говорю я. — Пожалуй, им еще можно пользоваться.
Македонский смущенно разводит руками.
Я листаю исписанные страницы. Которых что-то подозрительно много. Читаю первый попавшийся абзац: «Стебли кактусов также бывают поражены гнилью, вирусными болезнями, кактусной тлей или клещиками. Лечат их срезанием пораженных частей и препаратами, содержащими медь». Неужели Табаки незаметно для себя самого перешел от Слепого к кактусам?
— Ничего не понимаю, — говорю я. — Какие-то вирусные кактусы…
Македонский заглядывает в тетрадь.
— Это почерк Стервятника, — объясняет он. — Наверное, вчера ему твой дневник подвернулся, он и записал в него кое-что на память. Тебе это очень неприятно?
Я с ужасом перелистываю страницы. Одну, вторую, третью…
«Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необъяснимой с точки зрения официальной медицины избирательности данного заболевания, поражающего в первую очередь лиц, не приспособленных к полноценному существованию в рамках социума, в данном конкретном случае обозначаемом спорным термином „Наружность“».
«Дорогой Курильщик, Табаки предложил мне записать что-нибудь в эту тетрадь тебе на память. Я не очень представляю, что именно пишут на память…»
«Глохидии легко обламываются и проникают под кожу, вызывая зуд. Нежные белые колючки некоторых маммилярий и серебристые волосы старичков цефалоцереусов…»
— Тут, по-моему, отметился каждый, — с горечью говорю я. — Теперь это не дневник, а памятный альбом.
Перелистываю тетрадь до чистых страниц и замечаю какие-то проколотости, похожие на тянущиеся друг за другом многоточия.
— А в конце его еще кто-то искусал, — говорю я. — Хотя, нет. В самом конце его жевал Толстый.
Македонский присматривается и проводит по дырочкам пальцем.
— Это шрифтом Брайля, — объясняет он. — Слепой что-то написал. У него есть такой тупой гвоздь…
— Ага, — киваю я. — Памятное письмо. Я прочту его на старости лет, когда совсем ослепну и научусь читать по Брайлю. Совсем здорово!
Македонский вздыхает.
— Слушай, давай я дам тебе другую тетрадь? Почти такую же. Все равно Толстый и переплет тоже попортил.
— Не надо мне другую тетрадь. Как-нибудь обойдусь, — говорю я. — Ты извини, что я разворчался. Ты-то здесь совершенно ни при чем.
Он пожимает плечами.
— Смотри. А то можно еще положить под стопку книг. Страницы немного расправятся.
Македонский приносит клей, и мы кое-как приводим в порядок ободранный переплет. Потом кладем на тетрадь все книги, сколько их имеется в спальне. Потом Македонский заваривает чай. Пить чай в такую жару не особенно приятно. В Могильнике приносили охлажденный, со льдом, но Могильные привычки пора уже забыть.
Македонский показывает мне мешочек Толстого. Это совсем детский рюкзачок, набитый катышками жеваной бумаги.
— Подкормка для костра, — говорит Македонский. — Он уже давно их собирает.
А потом он говорит, что мне, пожалуй, стоит вырвать из дневника ту страницу, на которой отметился Слепой.
— Зачем? — спрашиваю я. — Она не страшнее тех, где писал Табаки.
— Но ты же не знаешь, что именно он написал, — настаивает Македонский. — И для кого.
— Что значит — для кого?
Македонский смотрит сквозь меня. Куда-то в переносицу. Пожимает плечами.
— Мало ли…
От его намеков мне делается жарко.
— Разве кто-нибудь в Доме умеет читать по Брайлю?
Он опять пожимает плечами.
— Кое-кто умеет. Ральф, например, — и дипломатично отводит взгляд.
Я молчу. В спальне душно. Солнце плавит оконные стекла. Македонский не смотрит на меня, а я не смотрю на него. Я знаю, чего стыжусь я, но мне непонятно, чего стыдится он. Отчего выглядит таким виноватым.
— Спасибо, — говорю я. — Я так и сделаю. Вырву эти страницы.
Он молча кивает.
В Доме, на первый взгляд, ничего не изменилось. Подъемы и отбои как не соблюдались, так и не соблюдаются. Ночью стая увлеченно обсуждала каких-то «Иерихончиков», которые «возвестят конец», а под утро Табаки разбудил всех, крича: «Вот он, я его поймал!» Когда включили свет, он сидел под столом с фонариком, а вокруг валялись осколки цветочного горшка.
Русалка ткет ковер или что-то вроде ковра. По цвету он похож на шахматную доску. Перед сном это вязание вешается на стену, и Русалка спит под ним. По ее словам, такая паутина защищает от плохих снов, а по словам Сфинкса, она, наоборот, крадет сны и запутывает их в нерасплетаемые клубки.