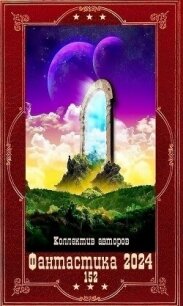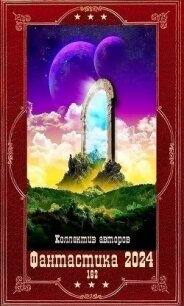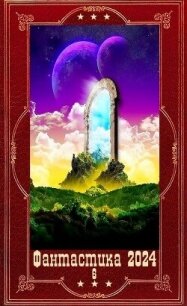Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Она не была ни невестой на свидании с суженым, ни дурной особой. Она была порядочной замужней женщиной сорока двух лет – более того, дамой, разборчивой, добродетельной, умной, талантливой. Но также и романтичной, несчастной и внезапно схваченной за ступню в интимной темноте.
Что произошло на той пьяцце? Не знаю. Я даже не знаю, были ли они там, я просто сочинил эту сцену в согласии с теми фактами, что мне известны. Но призраки Тепетонго, Керендаро и Тепетитлана, призраки Каса Валькенхорст и Каса Гутьеррес – да, они посещали эту темную веранду, подчеркивая своей осуществленной красотой неудачу имитации, и, не исключено, они поманили ее сейчас некой возможностью. Вполне допускаю, что в насыщенной ароматом темноте ее голой пьяццы на нее нахлынули воспоминания о столь же ароматной темноте Морелии и что опасная, немыслимая возможность, предлагаемая Фрэнком, принесла с собой торжественный звук колоколов, изящество и упорядоченность жизни, по которой она так же тосковала, как по родному Милтону, и которая была бесконечно далека от первопроходческих тягот Айдахо. Вполне допускаю, словом, что она была соблазнена. Сбежать от неудачи, от безнадежности, оторваться от бессловесного упрямца, с которым она сочеталась браком, и от плана, с которым сочетался браком он, – да, это мог быть нешуточный соблазн. И, конечно, в 1890 году, для Сюзан Берлинг-Уорд, нечто совершенно невозможное.
Что произошло? Не знаю. Глубоко сомневаюсь, что они, по очаровательному выражению Шелли, “занимались сексом”. Да, иные, даже в эпоху благовоспитанной утонченности, насмехались над верностью, которую предполагали брачные обеты. У богатых такое бывало частенько, кое‑кого она знала; бывало, вероятно, такое и у бедных – просто из‑за грубых условий жизни. Но у среднего класса, к которому принадлежала бабушка, такого не случалось, а если что и случалось, то сопровождалось жутким сознанием греха и стыдом из‑за падения и грязи. Не представляю себе подобного срыва у моей бабушки, которая верила, что высшее призвание женщины – быть женой и матерью, у бабушки, которая считала женское тело священным сосудом, а его соитие с мужским телом – с телом единственного избранника – высшей женской радостью, осуществлением миссии.
В общем, не представляю себе. Не верю. С другой стороны, я видел такой срыв у женщины, чьего срыва уж никак не мог себе представить, пока он не случился, о чьих соблазнах и понятия не имел.
Так что – не знаю, что там было. Знаю только, что без страсти и вины в той или иной форме не обошлось. В их мире, в их время, в их обстоятельствах и при их характерах не могло быть страсти без вины, поцелуев без слез, объятий без отчаяния. Мне представляется, что они прижимались друг к другу на темной веранде в конвульсиях любви и горя, что их страсть, едва вспыхнув от прикосновения, была потушена совестью.
И я одобряю. Сколько ни пытаюсь, нахожу для этих викторианских проблем только викторианские решения. Не могу посмотреть на брак как на что‑то несерьезное, на секс как на что‑то, к чему надо относиться раскованно и с юмором. И испытываю презрение к тем, кто так к нему относится. Шелли сказала бы, что я сексуально закомплексован. Секс почти деморализует меня своей важностью; мне кажется, я и впрямь думаю, что он бывает либо праведный, либо неправедный и что брачные обеты имеют отношение к его праведности. Викторианских бунтарей и прелюбодеев я даже уважаю больше, чем нынешних раскованных прелюбодеев и трахальщиков, потому что они‑то рисковали, они понимали серьезность того, что совершают. Итак. Что бабушка ни совершила, я принимаю это всерьез, ибо знаю, что это всерьез принимала она.
Когда Фрэнк ушел, уже таясь, уже думая, как избежать встречи с другом и начальником, когда он проскользнул за дом к своей привязанной лошади, не дожидаясь скрипа коляски на аллее, она, могу себе представить, ходила босая и в расстроенных чувствах вокруг набрякшей от воды лужайки и около розария, вдыхая густой ночной аромат и изводя себя мыслью, что Оливер в поисках некоторых из этих новых гибридов объехал пол-Коннектикута и привез их за две с половиной тысячи миль, чтобы ей в изгнании было легче почувствовать себя дома. То подступал гнев из‑за его иллюзии, будто она может почувствовать себя дома в таком месте, то, порывами, жалость к нему, любовь, желание залечить и успокоить, то досада на его доверчивость и ошибки в суждениях, то отчаяние из‑за будущего, то горечь из‑за необходимости написать Бесси, то отвращение к своей собственной слабости: женщина сорока двух лет, мать троих детей – и потеряла голову, как институтка. И, вторгаясь в это сложное сплетение противоречивых чувств, приходили острые воспоминания о тугих поцелуях всего минуты назад, о ладонях, навстречу которым вздымалась и уплотнялась грудь, и тогда накатывала вина, вина, вина за эти предательские поцелуи и некий благоговейный страх из‑за того, на что она оказалась способна.
Но когда услышала скрежет и громыхание несмазанных колес на аллее, освещенной лишь звездами, то прижала ладони к щекам, провела ими снизу вверх, убирая стягивающие следы слез, побежала босиком к двери и скользнула в дом. Лежа в постели с полотенцем на глазах, означающим головную боль, услышала, как дверь спальни тихо приотворилась и, после долгой вслушивающейся паузы, так же тихо закрылась. Раздался скрипучий северобританский голос Нелли: “Спать, дети, спать, спать!”
Дом успокаивался, звуки втянулись за его толстые глинобитные стены. Через открытое окно она услышала пение колес тележки со шлангом, которую Оливер стягивал с травы: он всегда убирал ее на ночь, чтобы колеса не оставляли вмятин на новой лужайке. Потом некоторое время его шаги взад-вперед по плиткам веранды, неторопливые и ровные, – несомненно, думает безрадостную думу, глядя в будущее, где ни малейшего света. Бедный, бедный! Видеть, как все разваливается, как гибнет всякая надежда, всякое стремление. Она села было в импульсивном порыве выйти к нему, взять его под руку и ходить вместе, избывая его неудачу.
И легла обратно, думая о неудаче, которую он на нее навлек, и вглядываясь пустым взором в свой собственный провал; нижняя губа прикушена, уши чутко прислушиваются к его шагам. Когда они умолкли, в доме воцарилась напряженная, звенящая тишь. Снаружи опустилась бескрайняя западная ночь, где лишь изредка раздавались дальние хлопки петард или пушек.
Спустя долгое время он вошел – явно снял обувь, чтобы не разбудить. Разделся в темноте, матрас осел под его осторожным весом; она шевельнулась словно в беспокойном сне, чтобы дать ему как можно больше места. Он лег на спину, и она услышала или почувствовала слабый шорох и движение воздуха от его дыхания, медленного и ровного. В конце концов, не поворачивая головы, он тихо произнес в темноту:
– Спишь?
Побуждение притворяться дальше длилось всего секунду.
– Нет. Как фейерверк?
– Превосходно. Дети были довольны. Туда мы не доехали, смотрели с дороги.
– Я надеялась, что не доедете.
– А отсюда хорошо было видно?
– Очень даже неплохо.
– А Фрэнку что было нужно?
– Что? Фрэнку?
Ей показалось, что прыжок ее сердца сотряс кровать; она лежала, мелко дыша ртом.
– Он заходил, да?
– Да, – сумела она выговорить, вновь предпочтя правду. Но сердце билось в грудной клетке, как птица, залетевшая в комнату. Было нестерпимо жарко, она не могла вынести его тепла так близко и подвинулась, досадливо скинула легкое одеяло.
– Хотел, видимо, с тобой поговорить, – сказала она. – Его жизнь тоже вся в клочья. Он недолго пробыл. Мы посидели на пьяцце, посмотрели на фейерверк. Сказал, повидает тебя завтра.
– Ага, – промолвил Оливер, не двигаясь.
Полуприкрытая одеялом, она лежала на спине. Ночной воздух, которым медленно веяло от окна, стягивал ее влажную кожу. Она старалась говорить небрежным тоном и слышала, как плохо выходит, – какая яркая фальшь звучит в голосе.
– А как ты понял, что он тут был?