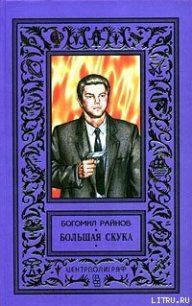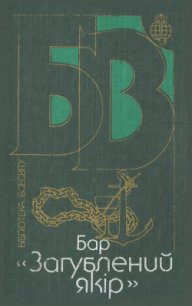Только для мужчин - Райнов Богомил Николаев (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
Два месяца – срок вполне достаточный, чтобы наладить быт, привыкнуть к работе в местной газете и чтоб ко мне привыкли здешние люди, завести друзей и самое главное – врагов. Без друзей человек еще как-то может прожить, но без врагов – это немыслимо. Если у тебя нет врагов, ты расслабляешься, успокаиваешься, впадаешь в летаргию. Враги придают тебе силы, заставляют быть всегда начеку, работать не покладая рук и вообще показывать, на что ты способен и как ловко ты умеешь утереть всем нос.
Правда, настоящих врагов у меня пока что нет, и от этого мне немного не по себе. Мелькнет тут или там какой-нибудь мелкий завистник, пробубнит у меня за спиной: «А этому чего не сидится в Софии?» – или прокомментирует мой потрепанный вид. Материал о трубах создал мне устойчивую популярность, которой, боюсь, я не заслуживаю.
По-современному отстроенный центр – светлый и приятный, но если говорить о квартире, то меня нисколько не тянет к этим новым постройкам, к которым все так рвутся. Может быть, поэтому у меня еще нет врагов. Я устроился в солидном старом доме с уютным двориком, защищенным от городской суеты высоким каменным забором. Цветник, дорожки, мощенные плитами, и несколько деревьев, среди которых есть молодой орех. Конечно, это не то могучее дерево, что высоко поднимается над моим бывшим домом, это его младший родич, которого словно нарочно прислали мне, чтобы я не порывал связь с древней династией орехов.
Дом двухэтажный и весь в моем распоряжении, если не считать детей. Потому что дети тоже здесь, и это вполне естественно – было бы поистине жестоко с моей стороны оставить их в интернате, чтобы в один прекрасный день, выпросив у воспитательницы разрешение сходить к дяде в гости, они пришли к старому дому, а им навстречу вышла бы Лиза и сказала: «Вашего дяди нет и не будет».
Так что дети у меня – хоть этот вопрос я сумел уладить, правда, не без досадных формальностей. Румяна уже в первом классе, а Гошо ходит в детский сад, и под вечер, когда Румяна приготовит уроки, они оба уходят во двор соседки, немолодой вдовы, у которой тоже двое детей, а где двое, там и четверо.
Вообще дети не отнимают у меня много времени, девчонка даже помогает мне по хозяйству – вместе со вдовой, конечно, которая самоотверженно справляется с более трудной работой и не угрожает моей репутации, поскольку возраст у нее уже не тот.
Всего лишь два месяца, а мой быт вошел в нормальное русло, он четко размечен и привил мне массу привычек. Просто диву даешься, как это человек, едва выбравшись из одной консервной банки, ухитряется так быстро влезть в другую. И все же между той и другой есть некоторая разница – сдвинув шляпу набекрень, ты можешь с полным основанием сказать себе: жизнь начинается!
Подходить к своему сорокалетию и радоваться тому, что жизнь начинается, – это не что иное как издевательство над самим собой. Но у меня такое чувство, будто я медленно и мучительно просыпаюсь после долгой спячки. Медленно и мучительно, как это бывает, когда накануне вечером примешь двойную дозу люминала. Я просыпаюсь, я уже проснулся, я уже стою на обеих ногах – подбадриваю я себя, чтобы ускорить процесс и вдохнуть наконец радость. Хотя проснуться для того, чтобы отпраздновать свой сороковой день рождения – не такая уж большая радость.
И все-таки факт остается фактом – я просыпаюсь. Встав с постели, я готовлю детям завтрак, поднимаю их при помощи радио, а проводив – кого в школу, кого в садик, – принимаюсь, как обычно, за самое нудное занятие – бритье. Потом я иду в центр, чтобы прогуляться и просмотреть газеты в укромном уголки позади кафе. В голове назойливо зудит мысль, что мне не мешало бы соорудить какой-нибудь сценарий документального фильма и написать книжку для детей, так как теперь у меня есть дети, а дети требуют дополнительных расходов. Сделаем, успокаиваю я себя, и это сделаем. И иду в столовую, чтобы получить обед на дом, а когда вхожу в наш двор, дети уже там, и Румяна торопится сообщить, что Гошко научился говорить гадкое слово, и я внушаю ему: избавь ты свою психику от подобной мерзости, это не украсит твой литературный стиль – словом, у меня вошло в привычку говорить с ним, как со взрослым, пускай привыкает: раз теперь даже простые люди подражают дикторам телевидения, Гошко не должен оставаться белой вороной.
После обеда я усаживаю Румяну готовить уроки, обещая, что, если у нее не все получится, вечером ей помогу, и ухожу в редакцию, а в редакции – как во всякой редакции, нет нужды подробно рассказывать, что там да как.
Вот так, в мелких делах и заботах, проходит мой день, и мое призвание, как сказала бы Лиза, сводится к тому, чтобы всегда быть при деле, работать там, куда меня поставили, вместо того чтоб рваться на сцену: постепенно я свыкаюсь с ощущением, что больше не болтаюсь на плоту «Медузы», а если даже я все еще там, то уже расстался с группой смирившихся жертв, потому что нельзя смиряться, если у тебя двое детей и масса забот.
Да, может, я все еще не покинул плот – не будем спорить, – однако мое место теперь среди тех, кто напряженно всматривается в далекую линию горизонта, где маленьким белым зайчиком светятся паруса Надежды.
Поздно вечером я вытягиваюсь на кровати, сквозь распахнутое окно доносятся далекие ночные звуки, гудок вечернего поезда, собачий лай и тихий шелест моего ореха, я уже готовлюсь совершить свою обычную прогулку в лес, в этот изменчивый и странный лес моих сновидений, и вдруг вижу, что на тропинке, ведущей к лесу, стоит Лиза.
– Смотри-ка ты, словно из-под земли выросла! – изумляюсь я.
– Вовсе не из-под земли, – отвечает она, как всегда равнодушно. – Я гуляю. А тебе что надо?
– Как это – что надо? – возмущаюсь я.
Ничего-то она не понимает, эта женщина. И так как она ничего не понимает, я пытаюсь ей втолковать, что сейчас, именно сейчас больше, чем когда-либо, мне нужен счастливый эпилог. Вся эта история могла бы иметь сто разных окончаний, но сейчас мне больше, чем когда-либо, нужен хороший вариант – не потому, что я пишу роман, и не потому, что хорошие варианты так редки в человеческой жизни, а просто потому, что не может и не должно все кончаться наоборот, правда же, и потому, что эпилог бедняцкого счастья – та веточка, за которую я ухватился, чтобы не рухнуть в пустоту, подобно тому, как в свое время моя тетушка вцеплялась костлявыми пальцами в меня, чтобы не рухнуть в бездну истерики. Истерика! Истерика – пустяк. Бывают бездны и пострашней.