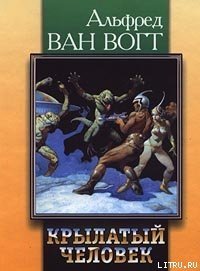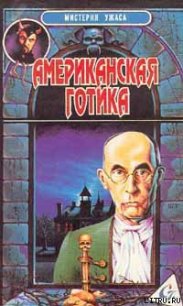Современная американская повесть - Болдуин Джеймс (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
— А-а!.. Ну, как ты там? Да, это я, Джо. Ничего, в порядке… да я все больше дома сижу… Подожди, слушай… А, да! Тиш видела его сегодня. Да он ничего. Слушай, ты… есть тут один разговор, потому я и звоню. Да нет, нельзя обо всем по телефону. Слушай! Это всех нас касается… Да. Слушай… Да перестань ты лопотать. Садитесь все в машину и приезжайте к нам. Сейчас. Да. Вот-вот. Сейчас… Что? Слушай, ну что ты за человек! Я же говорю, это всех нас касается… Наши тоже не расфуфыренные. Может хоть в халате приехать. Плевал я на это. Да помолчи ты, мать твою так… Я и то стараюсь повежливее. Ладно, ладно! Не кипятись. Погрузи ее на заднее сиденье и давай сюда. Слушай, ты… Дело серьезное. Стой! Захвати ящик с пивом на шесть банок. Приедешь, я деньги верну… Да… Слушай! Вешай трубку и вези свою задницу… всю вашу семейную задницу сюда, к нам. Чтоб через минуту были здесь. Пока.
Он вернулся на кухню, ухмыляясь.
— Миссис Хант наряжается, — сказал он и сел за стол. Потом посмотрел на меня. Улыбнулся чудесной улыбкой. — Поди ко мне, Тиш, — сказал он, — и сядь к отцу на колени.
Я почувствовала себя настоящей принцессой. Кроме шуток, честное слово! Он обнял меня, посадил к себе на колени, поцеловал в лоб и провел ладонью по волосам, сначала взъерошив их, а потом мягко пригладив.
— Ты хорошая девочка, Клементина, — сказал он. — Я тобой горжусь. Не забывай этого.
— Пусть только посмеет забыть! — сказала Эрнестина. — Я ее тогда выпорю.
— Это беременную-то! — воскликнула мама и отпила из рюмки, и тут нас всех прорвало. Отцовская грудь содрогнулась от хохота, я чувствовала лопатками, как она ходит ходуном, и в этом хохоте была яростная радость, невыразимое чувство облегчения вопреки всему, что висело у нас над головой. Да, я его дочь. Я нашла человека, которого люблю и который любит меня, и он вздохнул свободнее, он самоутвердился.
Ведь ребенок у меня в животе, по сути дела, и его ребенок, потому что, не будь Джозефа, не было бы и Тиш. Наш смех на кухне стал нашим бессильным ответом на чудо. Этот ребенок был наш ребенок. Он на пути к нам, большая рука моего отца, лежавшая у меня на животе, поддерживала и согревала его. Вопреки всему, что висело у нас над головой, ему было обещано благополучие. Его послала любовь, льющаяся из нас, — послала к нам. Куда это может завести, никто не знал, но сейчас мой отец Джо был готов ко всему. В смысле более драматическом, более глубинном этот ребенок больше, чем обе дочери, был плодом его чресел. Никаким ножом не отсечь его от жизни до появления на свет этого ребенка. И я точно почувствовала, что это чувствует и он, ребенок, который еще лежит неподвижно. Я тотчас почувствовала, что он встрепенулся, ответив на прикосновение руки моего отца, и ударил меня вверх под ребра. Что-то запело, замурлыкало во мне, и вдруг к горлу подступила тошнота, какая бывает по утрам, и я уронила голову отцу на плечо. Он сидел, обняв меня. В комнате было очень тихо. Тошнота прошла.
Шерон смотрела на нас, улыбаясь, покачивая ногой, думая, как быть дальше. Она снова подмигнула Эрнестине.
— Ну-с, — сказала Эрнестина, вставая, — что же, нам тоже принарядиться в честь миссис Хант?
И тут нас опять прорвало.
— Эй вы! Надо с ними полюбезнее, — сказал Джозеф.
— Будем полюбезнее, — сказала Эрнестина. — Еще как будем.
Ты воспитал нас правильно. Только вот платьев нам не покупал. — И обращаясь к маме: — Миссис Хант и обе эти девицы, они при гардеробе. Куда нам с такими тягаться, — сказала она голосом, полным отчаяния, и села за стол.
— Я портновской мастерской не держал, — сказал Джозеф и заглянул мне в глаза и улыбнулся.
Странно, как все получилось, когда мы с Фонни сошлись в первый раз. Странно потому, что мы оба знали: так будет. Нет, я не совсем правильно говорю. Мы не знали, что так будет. И вдруг — вот оно. И тогда мы поняли, что это всегда было в нас и только поджидало своей минуты. Этой минуты мы не заметили. Но она, минута, еще издавна все про меня и про Фонни замечала — сидела себе с независимым видом, поджидая нас, играла в карты, грохотала громами, ломала хребты в драках и все поджидала, поджидала, а мы тащились после школы домой навстречу друг другу.
Послушайте! Я поливала водой голову Фонни и терла ему спину, когда он мылся в ванне, но это было давным-давно. И клянусь, не помню, видела я когда-нибудь его секс или нет, но, наверно, видела. Мы с ним никогда не играли в доктора, но с другими мальчишками я в эту довольно-таки мерзкую игру играла, а Фонни, конечно, играл с другими девчонками и мальчишками. Не помню, чтобы мы когда-нибудь любопытничали насчет телес друг друга — это тоже уловка той сторожкой минуты, к которой мы знали, что приближаемся. Фонни слишком любил меня, мы были слишком нужны друг другу. Мы были каждый частицей друг друга, плотью от плоти друг друга и принимали друг друга так целиком, так безраздельно, что мысли о плоти никогда не приходили нам в голову. У него были ноги, и у меня были ноги, это не все, что мы знали о себе, но только ими мы и пользовались. Ноги возносили нас вверх по лестнице, спускали вниз по лестнице и всегда вели навстречу друг другу.
Вот почему между нами ни разу не возникало чувство стыда. Я долгое время была плоскогрудая. У меня только сейчас стала появляться грудь — это из-за ребенка, а бедер и до сих пор нет. Я так нравилась Фонни, что он не понимал, что любит меня. Он мне так нравился, что другие мальчики для меня не существовали. Я их не замечала. Я не догадывалась, что все это значит. Но сторожкая минута, которая выслеживала нас в пути и все ждала, ждала, она знала все.
Как-то вечером — ему было тогда двадцать один, а мне восемнадцать — Фонни проводил меня домой, обнял и поцеловал на прощание и вдруг отшатнулся. Я сказала «спокойной ночи» и побежала вверх по лестнице. Но в ту ночь заснуть мне так и не удалось: что-то случилось. Он перестал приходить к нам, и я не видела его недели две-три. Это было, когда он вырезал и подарил маме ту деревянную фигурку.
День, когда он подарил ее, был субботний. После того как он подарил ее маме, мы вышли из дому и пошли гулять. Я была счастлива, что вижу его после такого большого перерыва, и чуть не плакала. Все теперь стало другое. Я шла по улицам, которых раньше никогда не видела. Лица людей, окружавших меня, я тоже раньше не видела. Мы шли в молчании, и оно звучало нам музыкой. Может, первый раз в жизни я была счастлива, я знала, что я счастлива, и Фонни держал меня за руку. Как в то давнее воскресное утро, когда его мать вела нас в церковь.
Волосы у Фонни были теперь не на пробор, а шапкой курчавились на голове. И синего костюма на нем не было, и вообще он был не в костюме, а в старенькой, черной с красным куртке и стареньких серых вельветовых брюках. Башмаки у него были грубые, заскорузлые, и от него пахло усталостью.
Он был прекраснее всех, кого я знала за всю свою жизнь.
Походка у него была неторопливая, длинноногая, кривоногая. Мы спускались вниз по лестнице к поезду метро, и он не выпускал моей руки. Подошедший поезд был набит битком, и он обнял меня за плечи, оберегая от толкотни. Я вдруг подняла голову и взглянула ему в лицо. Этого никому не описать, а я даже пробовать не стану. Лицо у него было огромнее мира, глаза глубже солнца, необъятнее пустыни, в этом лице было все, что случалось на земле с начала времен. Он улыбнулся — легкой улыбкой. Я увидела его зубы и снова, как в тот раз, когда он плюнул мне в рот, увидела дырку, где не хватало того, выбитого. Вагон покачивало, он обнял меня покрепче, и вздох, какого я раньше у Фонни не слышала, будто зашелся у него в груди.
Поразительно это первое открытие, когда ты вдруг ощущаешь, что у другого человека есть тело, — это открытие чужого тела и делает его чужим. Значит, и у тебя тоже есть тело. С ним тебе жить до конца дней твоих, и оно укажет, каким путем пойдет твоя жизнь.
Меня вдруг ошеломило сознание, что я девственница. Да, девственница! Я удивилась — как же так? Удивилась — почему? Наверно, потому, что я всегда, не задумываясь, знала, что всю свою жизнь проживу с Фонни. Мне даже в голову не приходило, что моя жизнь может сложиться по-другому. Значит, я была не только девственница, я была еще совсем ребенок.