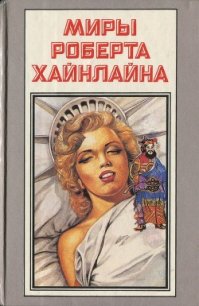Зимой в Афганистане (Рассказы) - Ермаков Олег (мир книг .TXT) 📗
Надрал соломы из стога на поле. Спал на соломе, укрывшись одеялом. Кролика за пазухой держал, чтобы тепло и не страшно было. Ночью страшно было, хоть где-то рядом и стояла эта тетка с красными ягодами. Ночью луна светила. Листья летели. Попадали в свет луны и белели, а ему снилось, что сыплется снег, что снежины садятся на лицо. Он проснулся и увидел, что это листья. До зимы еще далеко, еще успею построить хижину, теплую и прочную.
Утро было желтое. На гору светило сентябрьское солнце. Падали желтые листья, на деревьях покачивались желтые листья, на одеяле лежали желтые листья, землю устилали желтые листья, внизу, на болоте, желтели березы. Побродил вокруг горы, наткнулся на родник в овражке, набрал полную кастрюлю воды. Кашу варил. Кролик позавтракал краюхой хлеба. Кролик попрыгал по горе и вернулся. Калина глядела снизу. Прилетела сорока. Посидела на клене, осмотрела мальчишку и кролика, треснула: караул! — улетела и вскоре вернулась с тремя подругами, все вместе они уставились черными глазами на мальчишку и кролика. Он швырнул в них сучок, они хором крикнули: караул! — и унеслись прочь. По горе бегали мыши. Гора шелестела, желтая шелестящая гора.
Зазубренный горизонт срезал уже половину солнечного шара, когда сидевший на дороге возле автомобиля человек услышал хлопанье крыльев. Сверху опускались тени. Это были черные птицы. Они вытягивали ноги и становились на землю. Птицы складывали крылья. У них были длинные шеи с белыми полосами от клюва до груди и красные пятна на мелких головах. Птицы вышагивали в сухой траве, теребили клювами метелки злаков и склевывали семена с земли. Он отложил автомат, встал и пошел. Он медленно сходил с горы. Он плавно спускался с горы. Он бесшумно шел вниз. Впереди прыгал белый кролик. Птицы увидели их и замерли.
Они не улетали. Большие черные птицы ждали, повернув к нему лица.
Весенняя прогулка
Мягкие полевые дороги выносили их на макушки холмов и опускали в сырые низины, и небо то приближалось, то стремительно уплывало вверх, небо с редкими облаками и жаворонками, плещущими крыльями.
Парень в потертой и замасленной замшевой кепке ехал чуть впереди, он был проводником, он несколько лет ездил и ходил по этим дорогам, он знал на этом пути все повороты, все придорожные деревья и холмы. Он крутил педали и посматривал через плечо на спутницу.
Мягкие дороги несли их по зеленым холмам и зеленым полям, в небе стояли облака, желтело солнце и плясали жаворонки. Он глядел через плечо на нее и растягивал толстые губы, и она улыбалась в ответ. Он думал: это, конечно, здорово, что она с ним, что она увидит наконец-то эти места, здорово, но лучше бы одному ехать. Он привык один. Сперва не по себе было, особенно ночью: птица какая-нибудь крикнет, ветка упадет, или прошуршат чьи-то шаги, но потом страх прошел. И однажды он убедился, что лучше одному: проболтался однокласснику про Кофейные пруды, и тот напросился в спутники, и все было скверно — одноклассник говорил, говорил и смеялся громко, жадно удил карасей, пытался подбить камнем утку, запросто срубал живые осины и твердил, что в лесу нечего бояться, лес — это группа деревьев, и все было скверно, и все было не так. Конечно, она не одноклассник. И все-таки.
Они переехали железную дорогу — облитые мазутом шпалы, хрусткая насыпь, черные шляпки костылей и узкие, зеркальные полосы, уходящие вдаль, — и он подумал: да, скоро. Их опять подхватил мягкий проселок, и опять они выплывали на лбы холмов и съезжали в пахучие сырые ложбины.
Да, скоро, думал он. Через три дня. Всего-то. И — на два года. Сапоги, казармы. Ну, это ерунда — два года, это не двадцать пять лет, как при Царе-Горохе.
Он опять засомневался, правильно ли сделал, что взял ее с собою. Что они увидят за один день? Чтобы везде побывать: на Рыжей, на Лисьем холме, на прудах, в Деревне, — для этого дня мало. Один он мог бы ночевать и увидеть все. А с нею придется вернуться в город сегодня. Ее родители ничего не знают, уверены, что дочь утром ушла в институт и что после обеда до вечера будет конспектировать какие-то труды в читальном зале институтской библиотеки. А она положила в портфель вместо учебников и тетрадей кроссовки, трико, футболку, хлеб и колбасу, пришла к нему, переоделась и вот едет рядом по мягкой дороге на велосипеде, который он одолжил у приятеля, старательно крутит педали, не просит остановиться, хоть с непривычки уже устала, и улыбается, когда он оглядывается. И футболка на ней уже сырая. Утро, но солнце горячее. Май.
Наезженная дорога свернула, а они покатили прямо. Они поехали по заросшей и зыбкой дороге, которая скоро ушла в болото.
Она послушно сняла вслед за ним кроссовки, закатала до колен трико и осторожно погрузила белые ноги в жирную и холодную трясину.
— А змеи здесь есть? — тяжело дыша, спросила она.
Он шел впереди. Он оглянулся и сказал:
— Змеи? Я три года здесь... я за три года — ни разу... — И замолчал, увидев слева на кочке коричневато-зеленый резиновый крендель. Молодая змейка бездвижно лежала на солнечной сухой кочке, можно было подумать, что она мертва, но ее глаза были влажны, и две солнечные точки горели в них.
Он отвел глаза от кочки и спокойно сказал:
— Нет. Это благословенные места, я же говорил.
На них, распаренных, обливающихся потом, напали комары, и они шлепали себя по лицам, передергивали плечами и спешили пройти болото. Трясина пузырилась, шипела и жвакала под ногами. Грязь была холодная, а воздух тепел, и солнце раскаливало одежду на спине и плечах.
Вот же, думал он, за три года ни одной змеи, а сегодня, в этот последний день... Он обернулся, скользнул взглядом по ногам спутницы... Она вопросительно посмотрела на него и состроила бодрую мину. Лицо ее было мокрое, красное, заляпанное кровавыми кляксами, на щеке темнел раздавленный комар.
— Сейчас выйдем, — сказал он.
Надо было одному. А теперь бойся, как бы ее не укусила змея.
Они перебрели болото, прошли немного по твердой земле сквозь ивовые заросли и оказались на поляне под косогором. Поляна была желта от цветущих одуванов. Здесь трудились пчелы и шмели, всюду над цветами вспыхивали стеклянные крылья, и слышен был тихий бархатный гудеж. Там, где поляна переходила в косогор и начинала плавно вздыматься, белело глинистое око. Родник пульсировал, и по его прозрачной поверхности расходились круги.
— Это он? Да? Бог Бедуинов? — Девушка бросила велосипед и пошла к роднику. Она склонилась над шевелящейся водой, замерла и беспомощно оглянулась. Он приблизился и посмотрел в родник. На белом осклизлом дне медленно ворочалась, как бы исполняя ленивый танец, дохлая лягушка. Он засучил рукав, погрузил руку по локоть в воду, вытащил лягушку и бросил ее в цветы.
— Однажды, — сказал он, вытирая руку о штаны, — я нашел в роднике серую птицу с выбитым глазом, видно, лунь или ястреб неудачно поохотился.
— Кровожадный Бог, — ответила она, брезгливо глядя в родник.
Он пожал плечами и склонился над водой. Напившись, он насмешливо посмотрел на спутницу. Она поджала губы и отвернулась.
— Пей, чего ты?
— Ничего. Мог бы не говорить про птицу.
— Но это было давно. Пей.
Во рту было горячо и сухо, как на родине этих бедуинов с верблюдами. Придумал же — Бог Бедуинов. Она улыбнулась.
— Пей, — повторил он.
— Пей, пей, — передразнила она, нахмурилась, пригнула голову, вытянула губы к вздыхающей воде. Потом, глядя на ноги и шевеля перепачканными пальцами, она сказала:
— Отмыть бы.
Он вынул из рюкзака кружку и принялся черпать воду из родника и лить ей на ноги. Она терла ноги и задыхалась от холода. Потом поспешно надела носки, обулась и попрыгала на месте, чтобы согреться. На ее лбу билась челка, и под футболкой вздрагивали груди.
Он отвел глаза, лег в траву и сказал:
— Отдохнем.
Она села поодаль. Гудели шмели...
— А она как-нибудь называется? Ну, родник — Бог Бедуинов, а поляна?
Он ответил, что никак.