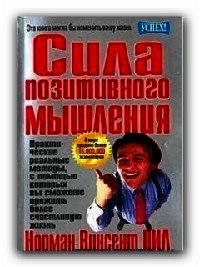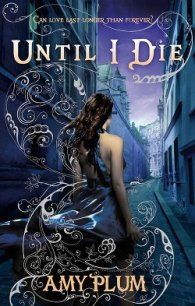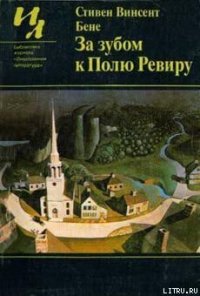Книга И. Са (СИ) - Килпастор Винсент (книги без сокращений txt) 📗
— Кажись я его маму знаю. Ага. Точна. Галинка это. Ага. Мужа у ней депортировали. Ага. Она. И подругу ее знаю. Йоб ее как то.
— Кого йоб? Маму? — я спросил с ужасом, в голове обозначилось дурное словечко «мазафака».
— Не. Не маму — подругу ея. — Владку Тубасову.
— Красивая она?
— Хто? Владка?
— Не — я немного смутился — Мама Максима, красивая?
— Хорошенькая. Вон как Макся — кудрявенькая такая, шустрая.
— А Макся хорошенький? — спросил я с подколом.
Серега спохватился, что зашел в опасные в тюрьме гомодебри и поперхнулся кофием.
— Да я всех на Парме знаю. И меня все знают.
Парма, Парма! Вверху в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается по хайвею. Лениво и бездумно стоят подоблачные дубы, золоченые маковки церквей и ослепительные удары солнечных лучей зажигают в них. Изумруды, топазы, яхонты насекомых сыплются над пестрыми украинскими огородами, полными подсолнухов.
Серые стога сена и располагаются у гаражей с припаркованными хондами. Нагнулись от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш. Как полна сладострастия Парма! Молитвенный перезвон православных и католических церквей, магазинчики и колбасные лавки как в старом Львове, пекарни, цырульни, баптисты и пятидесятники, автомастерские и дантисты, тракисты и аптекари — и все всё друг про дружку знают.
Кто-то кого-то обязательно йоб, не учитывая факта что это может чья-то мама или папа. Парма это одновременно и державность и местечковость — как большая Украина.
Поэтому и поселился я в Олд Бруклине, а не в Парме. Рядышком — через шоссе. Малиновый звон колоколов утром слышу, а сплетни уже нет. От того плохо перенес 2014 год. Не знал как реагировать на Крым. Чётко знал, что он наш, но что бы вот так демонстративно отжимать сразу после майдана? Ведь можно было чиста по-мерикански — купить с потрохами.
Не то что мне кто-то угрожал. Просто Парма не поняла бы, не встань я в украинский бок. И только сейчас — уже во второй тюряге за один первый трампов год, злой от беспредела, удивленный как падают за пару месяцев двухсолетние демократии, я признался себе, что весь блеск и прелесть украинской революции, которую я встретил с распростертыми объятиями в результате оказалась обычной американской телевизионной разводкой очередной банановой республики.
С грустью вспомнил, как мечтал в первые дни победы в Киеве, что проект Украина даст миру как минимум новую линию одежды, где вместо набившего оскомину Че Гевары будет красоваться Нестор Махно. А сама Украина станет западным аналогом России — как аксеновский остров Крым.
Так на борту Мейфлауэра я, злой на всех как побитая собака, примирился с Владимиром Владимировичем Путиным. Именно так — с эпатажем и демонстрацией и следовало брать Крым. С помпой. Нос вашингтонцам утереть.
Теперь слово «русский» здесь снова произносят с ужасом, трепетом, отвращением или восхищением — не без эмоций, в отличии от например неокрашенного слова «гаитянин». Портретов Путина в американских газетах столько сколько и в российских. Я вырезаю фотку из сегодняшнего Плейн Дилера.
Товарищ Путин что-то говорит нам на фоне российского триколора. Государь подносит ко рту щепоть из крепких борцовских пальцев, со швейцарскими часами Хубло на запястьи. Владимир Владимирович как бы говорит нашим западным партнерам: «Что, волки, пять пальцев в рот запихать что-ли хотите?»
Андрийко недовольно смотрит на фотку, украсившую мою тумбочку. Я со своей политкорректной мелкотравчатастью говорю:
— Да нет же. Ты неправильно понял. Эта фотка называется «Путин в федеральной тюрьме».
А маму Максима я успел увидеть до того как ее этапировали обратно в окружную. Всплыли новые подробности семейных налётов на Мейсиз. Максимку мама покрывала и грузилась за все сама — как Сонька Золотая Ручка.
Я шел в библиотеку, как обычно, в гордом одиночестве. На прогулку в тот день позвали часов в девять утра — весь барак спал. Что-то сбойнуло в расписании конвоирования у ментов и мы с ней столкнулись в коридоре секционки, полном датчиков движения и камер — такого теоретически случится не должно было.
Узнал ее сразу — копия Максимка. Полосатая пижама ловко скрывала первичные половые признаки. Это подчеркивало сходство. Я поздоровался — по-русски. Она улыбнулась и с южным акцентом: «Посмотрите за сынулей» — обронила на ходу.
Отчего вспомнилась мантра Ларса фон Триера из «Нимфоманки» — Мия вульва. Мия максима вульва!
Она же ребенок совсем еще. Или это я уже такой хрыч старый? Не смог не оглянуться ей вслед, и глянув на задницу в полосатой пижамке, мысленно благословил: «Храни тебя Христос, дивчинко, дай тебе бог отвертеться. Гай-гуй ворам, хер — мусорам!»
А Серегу отправили на той же неделе, только в пятницу. С мексами почему-то.
— Что брат, Аэрео-Мехикан?
— Врешь, сынку, Аэро-Свит! Аэро-Свит. Ну, не поминайте лихом!
Я, Андрюха и Серый присели на дорожку. Макс остался стоять, потому как он уже пендос, одно слово.
У Сереги никогда не было денег на квитке в тюремный магазин, но как и подобает настоящему украинцу, он сколотил тут обширное хозяйство. Кучи бутылочек с шампунем, крем для бритья, зубные пасты, шариковые ручки, несколько застиранных футболок огромного размера и комплект теплого нижнего белья, он завещал мне и Максу, сэкономив нам кучу денег. Долгие два месяца серегины запасы мыла все не кончались и не кончались.
Кондиционер в бараке ночью колошматил так, что было холодно даже под двумя одеялами. Второе одеяло было контрабандным, оставленным мне, конечно же, Серегой. Его одеяло и теплое белье я еще долго буду вспоминать добрым словом.
Одна беда со вторым одеялом. Шмона теперь боюсь. Отметут мусора — буду чувствовать себя полным лохом.
Надо жить так, чтобы нечего было терять на шмоне — нечего, кроме своих цепей. Так нам завещал Нестор Иванович Махно.
Глава 7
Мексиканцев депортировали быстро, без суда и следствия. В трамповы времена поток вырос настолько, что некоторые помощники шерифа просто ленились их оформлять — один хер Аэрео Мехикан. Зачастую мексам просто забывали выдать бирки-браслеты с баркодом, что для любой тюрьмы мира, конечно же полный бардак.
Доходило до шаламовского абсурда — их записывали по двое-трое под копирку — на фамилию человека который уже был в компе. Копи-пастили людей одно слово. Главное чтоб количество голов совпадало в этапной сопроводиловке. Таким манером у нас однажды объявилось сразу трое Хернандесов. И шконки хернандесов очутились в строю прямо перед моей.
Утром на просчет приходит пожилая женщина вертухай. Никак не могу привыкнуть что в мужской половине тюрьмы попадают бабы-вертухаи. Иной раз молодые. Женщина-мент оглядела список и пробормотала с лучезарной прокуренной улыбкой:
— Язык с вашемя иммигрантскими фамилиями сломаешь. Давайте так — я на кого пальцем покажу тот свою фамилию грит вслух, а я, значит со списком разнарядки сверяю, оки доки? Буэно? Lets go!
Тыкает перстом в первого — «Хернандес», во второго — «Хернандес», третьего — и тот Хернандес! Улыбается вижу — тычет в меня — и я тоже рапортую: «Хернандес».
Укоризненно качает головой: «Какой сволочь эту разнарядку составляла» и двигает перст дальше — на Пако. «Сантос» — выдыхает Пако. Она бормочет: «О! Уже теплее» и тыкает в Ису — «И» — говорит он и добавляет с придыхом как питон «Сааа».
Я впарил Пако Габриэля Гарсия Маркеса — нашел в библиотеке оригинал на испанском — Сьен аньос де соледад. Способ Маркеса закольцовывать события во времени так уж сложен для людей изведавших психоделики вроде грибов или ЛСД — когда открывается понимание относительности времени — вот я на выпускном в школе, но одновременно уже в больнице с первенцем на руках, а вот в тюрьме рядом с Пако — а вот и нет меня совсем. А может и не было никогда.