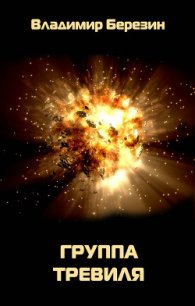Свидетель - Березин Владимир Сергеевич (читать хорошую книгу полностью TXT) 📗
Я же - изучал своих спутников. Редис поражал меня обилием правил, придуманных им для себя и других. Его жизнь была регламентирована, как военный устав, но это не раздражало меня, а лишь внушало легкое удивление.
На моих глазах он, ожидая какую-то женщину по делу, обнаружил, что она опоздала на десять минут.
Редис развернулся и ушел. Видимо, это был род наказания.
Так или иначе, но это была его жизнь, и, несмотря на то, что она была полна обидами на несоблюдение правил, она казалась мне ничем не хуже моей.
Жизнь любителя Баха проистекала более созерцательно - он смотрел на окружающий мир из окна своей мастерской. Из окна был виден угол школьного двора, где ученики пили пиво.
Редис получил заграничный паспорт с извечным гербом Союза Советских Социалистических Республик и собирался, наконец, оставить эту страну навсегда. Лишь неясные формальности с выбором его нового места жительства задерживали отъезд.
Впрочем, и я не терял надежды поехать куда-нибудь.
Видно, я все же не наездился. Только теперь надо было ехать самому, а не грузиться в эшелоны или въезжать по аппарели в брюхо транспортного самолета.
Но теперь, снабженный штатской подорожной, я ехал на восток и ехал на юг, не гнушаясь поездом, хотя моя фирма оплачивала и самолет.
Дело было во времени. Дорога была долгой, и это меня устраивало.
Я выходил на неизвестных станциях и курил.
Было хмуро и пустынно.
Дым от трубки стлался по земле, и оттого я был похож на паровоз. Пробегающие железнодорожники боялись, что я впрягусь в какой-нибудь бесхозный состав и уволоку его в неизвестном направлении. Но все же большие и маленькие станции исчезали, за окнами таяли остатки зимы под кустами и в чахлых лесозащитных полосах.
Теплело, стекла покрывались мелкими капельками воды, и я представлял себе, как эта вода будет капать мне на голову в пункте моего казенного назначения. Куда и зачем я еду - мне было совершенно непонятно. Есть ли вообще на свете эти маленькие южные города со своими нерусскими жителями, с новыми чиновниками, новыми конторами и новой властью?
Так я размышлял, доедая баночку варенья, оставленную в моем доме одной несчастной девушкой. Баночка была маленькая, и девушка была маленькая, и щемило мне сердце, когда я смотрел на эту баночку - вспоминая, как баночка эта осталась на моем столе, огромном и пустом, и как увидел я сиротливое варенье, несчастный и несчастливый дар. Горечь отъезда снова подступала ко мне, и, как всегда, одиночество следовало за мной.
И все же мне было интересно, я таки не наездился.
Города были тихи и серы.
Тихи и пусты были офисы, люди по привычке не ходили на работу днем, сидели по домам и пили чай, хотя жары еще не было.
Начальства не было, у начальства всегда свои дела. Иногда я хамил этому новому начальству, сидевшему в своих кабинетах под неразборчиво цветными флагами, но в меру, так, чтобы оно, начальство, считало меня за своего.
А иногда новых хозяев было невозможно найти. Эти люди получили свое и вернулись в нормальное безмятежное состояние - такое же, как и у меня.
Я бродил по пустым коридорам бывших институтов.
Как-то в одном из таких пустых зданий я долго пил черный чай, сидя под огромной геологической картой Советского Союза, а потом, блуждая, зашел в огромное крыло исчезнувшего как учреждение института, где теперь разместился нефтяной концерн.
Одна из дверей была открыта, и за ней тонко пищал осциллограф, виднелись стеллажи с колбами и аппаратурой.
В разных концах комнаты сидели две русские женщины в белых халатах, и одна говорила другой:
- Лида, как у тебя с сероводородом?
- С сероводородом у меня отлично, теперь у меня все хорошо, а вот пошла ли у тебя вода, Маша? Как у тебя с водой?
Линолеум скрипнул у меня под ногой, и женщины испуганно обернулись к двери. Однако я уже шел дальше по коридору - чтобы снова безнадежно искать начальство.
Возвращаясь, я писал отчет и клал его на равнодушно-чистый стол начальника - уже своего.
В поездах нового времени я обнаружил, что возникла особая общность людей, которых я узнавал по глазам. Глаза эти были тоскливы и выцвели от ненависти. Их обладатели, подобно моему Редису, раньше чувствовали себя солью земли, а теперь стали ее пылью. И достаточно было, заглянув в эти выцветшие глаза, произнести негромко и доверительно, как пароль: "Продали Россию, суки...", и ты уже становился принят в круг, злобное братство навсегда, ты становился своим, за тебя ручались и тебе наливали нескончаемо и были готовы передавать от одного к другому. Я боялся этой злобной неотвязной любви, но она жила в людях с выцветшими глазами помимо меня, как и ненависть.
Музыка их была - бессильный скрежет.
Но мы жили в одной стране, родились в ней, и у нас было одно прошлое.
Неожиданно я встретился с Гусевым и так же неожиданно снова очутился в его доме в Трехпрудном переулке.
Гремели тарелки, брякали вилки, лопотали что-то бессмысленное итальянские девушки.
Девушки были из католической миссии. Они несли в Россию римский обряд, и следствием этого подвижничества был стоящий на столе "Чинзано". Удивило меня иное обстоятельство - за полгода со времени моего последнего визита в Трехпрудный ничего не изменилось в той квартире.
Только один из гостей, которого я знал лет десять назад, был с пустым рукавом - он потерял руку при обстреле Кабульского аэропорта. Он потерял руку, именно потерял, а не оставил, не положил и не забыл.
Веселый это был человек.
Глядя на него, я думал, что вот эпитет заменяет имя. Особый вид прилагательного, указывающий на отсутствие детали, заменяет подробное описание человека. Безрукий - потерявший руку, безногий - потерявший ногу, безумный - потерявший рассудок, лысый - потерявший волосы, все они есть среди моих знакомцев, все они сидят рядком и требуют описания. От них не остается имен, как и от тех бесчисленных мужчин и женщин, которых я когда-то видел, - только свойство.
А впрочем, все так же кулинарствовал мой приятель, все так же терзал электрогитару хозяин, и так же, ближе к полуночи, сгустился из наполненного сигаретным дымом воздуха Зигмунд Фрейд.
Компания начала обсуждать, как бы ей, компании, сходить в баню и там всласть налюбить своих подружек. Молодые люди, залитые водкой, спорили о том критерии, по которому нужно приглашать в баню мужчин - по количеству и качеству женщин, которых они приведут с собой.
Часы остановились, и я чувствовал себя участником разговора, тянувшегося уже много лет.
Однажды сам Гусев, в другом месте и в другое время, сказал мне об этом вполголоса, отвернувшись от стола.
- Меняются люди, проходят годы, распадаются государства, но разговор остается одним и тем же. И вот сейчас, слушай, кто-нибудь вспомнит о недорогом алжирском вине... Даже если этот вспоминатель исчезнет, место его неминуемо займет другой, и призрак алжирского вина вновь явится собеседникам.
Так же было и здесь. Стол стал, правда, побогаче, но, сидя под портретом худосочного юноши с саксофоном, я так же наливал и закусывал.
Мой безрукий сосед по столу рассказывал, как, познакомившись с некоей образованной девушкой, он отчего-то стал выдавать себя за повара ресторана "Пекин". Но в особенностях китайской кухни этот человек был осведомлен мало и оттого представился лучшим кофе-гляссеровщиком Москвы.
Чтобы разбавить свой рассказ, он признался даме, что, когда в ресторанном оркестре не хватает музыканта, он покидает кухню и начинает лабать на саксе.
- И на каком же саксофоне вы играете? - спросила вдруг его новоприобретенная знакомая.
Тут он понял, что погиб.
Откуда ему было знать, какие саксофоны бывают на свете - ему, все время думавшему, что Армстронг играл именно на саксе, а не на трубе, как ему объяснили впоследствии знающие люди.
Но делать было нечего.
- Да я на всех, - сказал он уверенно. - Кто из наших отсутствует, за того инструмент и сажусь. Мне раз плюнуть.