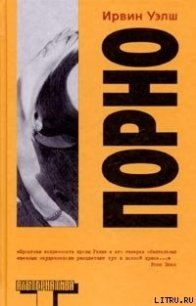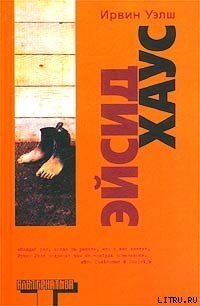Судьба всегда в бегах - Уэлш Ирвин (читать книги .txt) 📗
— Люблю ебаться, — говорит она. — Мне не пришлось этому учиться. Врожденный талант. Моему первому парню было двадцать восемь, а мне двенадцать. В приюте. Он чуть не свихнулся. Туг все дело в бедрах, а никто так не владеет своими бедрами, как я, и такие, как я. Никто так не владеет губами и языком, как я. Знаешь, многим мужчинам это правда нравится. Да, ясно, считается, что только извращенцы способны сношаться с уродками…
— Нет, не уродка ты. Не называй себя так…
Она мягко улыбается мне:
— Хотя изюминка, очевидно, в том, что имеешь неограниченный доступ. Нет рук, чтоб отталкивать парней. Им нравится думать, что я беззащитна, что из меня не торчат эти грабли, которые их отпихивают, мешают им получить свое. Ты ведь такой же, правда? Вот оно все перед тобой, неограниченный доступ к грудям, к пизде, к заднице. Куда вздумается. Ух, если б у меня еще и ног не было, да? Просто кукла для ебли. Ты мог бы сплести сбрую, запрячь меня в нее и иметь с какой угодно стороны, в какое угодно время. Ты считаешь, я беззащитна, лежу тут исключительно для твоих нужд, чтоб ты совал в меня свой дымящийся хер утром, и днем, и вечером.
Не то она говорит, ешь-то, не то. Не то она говорит. У меня уже мания какая-то. Наверно, в тот раз нашла в холодильнике дыню… точно, нашла.
— Если ты имеешь в виду дыню…
— Ты это о чем? — спрашивает она. Значит, не нашла, слава яйцам. Я снова наезжаю на нее: — Ну для чего ты все это говоришь? А? Я люблю тебя. Я люблю тебя, ешь-то!
— Иными словами, хочешь сношаться со мной.
— Нет, я люблю тебя, люблю же.
— Ты меня чуть-чуть огорчаешь, мальчик с Майл-энда. Тебе что, никто никогда не говорил, что любви на этом свете не существует? Существуют лишь деньги и сила. Вот это слово я понимаю: сила. Я росла и зубрила, зубрила про эту силу наизусть. Сила, против которой мы восстаем, когда пытаемся стребовать с них долг, стребовать то, что наше по праву: с капиталистов, с правительства, с юстиции, со всей этой ебаной клики правящих миром. Как они, черт, навострились сплачивать ряды и цепляться друг за дружку! Тебе это еще только снится, Дейв. Разве не тем же занимаетесь ты и твоя контора, только в своем, игрушечном масштабе? Сила, чтобы причинять боль. Сила, чтобы присваивать. Сила, чтобы быть таким крутым, что тебя никто никогда не посмеет облапошить. Никто никогда? Но это роковая ошибка, Дейв, потому что кто-нибудь да когда-нибудь обязательно облапошит.
— Может, я раньше так думал, но теперь изменился. Мне лучше знать, что у меня на душе, — говорю я ей. Прикрываю рукой промежность. Эрекции как не бывало, положение самое идиотское: сидишь в постели голый рядом с голой девчонкой и ни хрена не предпринимаешь.
— Что ж, очень жаль, миленький мой конторский. Потому что, если ты не врешь, ты мне не подходишь. Не нужен мне болван, который разочаровался в силе. Все вы, мужики, такие: на словах орлы, а до дела дойдет — в бега. Всегда такими были. Вот папочка мой тоже в бега ударился.
— Не разочаровался я, ешь-то! Я на все для тебя готов!
— Хорошо. В таком случае я намерена сосать твой член, пока он не встанет, как в прежние времена, а потом ты сам выберешь, куда меня употребить. Все запреты, как говорится, налагает только твое собственное воображение.
Так она решила, и я ничего не мог с этим поделать. Я любил ее и хотел о ней заботиться. Хотел, чтоб и она меня любила, а не лаялась, ровно озверевшая шлюха. Не по нутру мне девушки, которые так вот лаются. Видно, начиталась всяких пакостей или с психами наобщалась, от них и подцепила эту манеру разговора. Да, я ничего не мог поделать, и знаете что? По-моему, она с самого начала отлично понимала, что так все и будет, по-моему, отлично, ешь-то, понимала.
Она накинула халатик. И сразу стала до того красивая, может, потому, что он повис у нее на плечах так, словно бы под ним были руки. Но если бы под ним были руки, она б сейчас тут не рассиживала с таким отребьем, как я.
— Когда ты собираешься пришить Стерджесса? — спросила она.
— Не стану я его пришивать. Не стану, и все.
— Если любишь меня, станешь! Ты ведь только что обещал! — закричала она. Заплакала. Блин, не выношу, когда она плачет.
— Так не годится. Я даже не знаю этого хмыря. Это ж убийство, понимаешь?
Поглядела мне в лицо, села на постель рядом.
— Дай-ка расскажу тебе одну историю, — говорит. И, пока не закончила, всхлипывала.
Сразу после родов Самантин старик отчалил. Не смирился с тем фактом, что у его дитяти нету обеих ручек. Зато старуха, та без затей пошла и тихо повесилась. Так что Саманта росла в холе и неге. Правительство и разнообразные судебные инстанции горой стояли за тех, кто произвел лекарство, ей сперва даже не собирались выплачивать пособие по инвалидности, ни ей, ни другим детям, которые родились безрукими. Вот так вот. Лишь когда журналисты стали копать шубже и подняли хай в газетах, только тогда те расщедрились. Этому хренову Стерджессу, а именно он, сука, все и заварил, пожаловали дворянство, этой старой, ешь-то, мочалке. Он был главным, но они все его защищали. Он сотворил этакое с моей девочкой, с моей Самантой, а его, на фиг, произвели в рыцари за особые заслуги перед фармацевтикой. Должна же хоть где-то найтись справедливость. Обалдеть можно.
Короче, я пообещал ей, что сделаю это.
Потом мы с Самантой легли и занялись любовью. С ней было чудесно, не то что со Вшой. Я кончил как полагается и порядком от этого притащился. И пока мы с ней были вместе, я видел перед собой только ее лицо, ее прекрасное лицо, а не харю того гребаного миллуоллского пидора.
Оргрив, 1984
Для Саманты Уортинггон слово «террористка» звучало слегка смехотворно. «Международная террористка» — так и просто дико. Саманта Уортинггон, выросшая на окраине Вулвергемптона, была за границей лишь однажды — в Германии. Ну, еще раз ездила в Уэльс. Два путешествия, в каждом из которых их могли прищучить. Две акции, после каждой из которых она чувствовала необычное оживление, сознание выполненного долга и тем большую готовность к следующей.
— Так ничего не выйдет, — говорил Андреас. — Давай заляжем на дно на подольше. Потом всплывем и ударим. А потом заляжем снова.
В каком-то смысле Саманта не просто учитывала вероятность поимки; она душой принимала ее обязательность. Ее историю растащат по газетам, и может, кто-нибудь не только взъярится, но и поймет. Мир поляризуется, а разве не этого и надо добиваться? Ее выставят либо как хладнокровную психопатку, «международную террористку Красную Сэм», либо как глупую, наивную девицу, одураченную более злонамеренными персонажами. Черная Ведьма или Падший Ангел; ложный, но неизбежный выбор. Какую роль ей придется играть? Она снова и снова вчуже примеряла на себя разные ужимки в зависимости от того — какую.
Саманта понимала, что правда куда более сложна. Она оглядывалась на силу, ее подталкивавшую, — отмщение, и на силу, ее направлявшую, — любовь; и сознавала, что не могла поступать по-другому. Она была узницей, но узницей по доброй воле. Андреас излучал такой свет, который намекал, что он станет другим человеком, как только ошибки будут исправлены. То был просто намек, и нутром Саманта опять-таки понимала, что этот намек обманный. Разве не заговаривал он о переходе от частных акций к политике государственного устрашения? Да, то был просто намек, но до тех пор, пока он существовал, Саманта не могла с ним порвать.
Со своей стороны, Андреас уповал на дисциплину. На дисциплину и благоразумие. Разница между ними и озверевшими радикалами или революционерами заключалась в социальном статусе. Они с Самантой для внешнего мира являлись рядовыми гражданами, политически не ориентированными. Саманта лишь однажды нарушила свою легенду.
В Лондоне у нее были друзья, состоящие в Комитете поддержки шахтеров, они-то и уговорили ее отправиться в Оргрив. Картина силовой борьбы осажденных представителей рабочего класса с наемниками машины господавления открыла ей глаза на многое. Она просочилась в первые ряды пикетчиков, налетавших на кордоны полиции, которые защищали штрейкбрехеров. Она была вынуждена действовать.