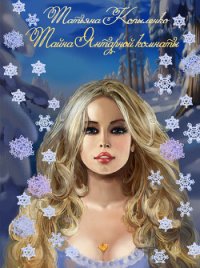На Лесном озере - О'Брайен Тим (серия книг txt) 📗
Это было непросто. Заведение пугало его не на шутку. С напускной небрежностью он бросал взгляд на витрину, проходил мимо, потом возвращался, и так несколько раз; в конце концов, сделав глубокий вдох, говорил себе: «Ну! Что бы он подумал! Ну!» – и быстро входил внутрь, пробегал мимо рекламных образцов под стеклом, и голова его наполнялась сверкающим оборудованием, которое он по каталогам знал как свои пять пальцев: «Мечта бедняка», «Рог изобилия», «Китайские кольца», «Дух тьмы». Там были и шнуры для фокусников, и шарики из губки, и особые подставочки-«серванты», и целая полка с шелковыми платками и лентами – но в каком-то смысле он ничего этого не видел.
Стоящая за прилавком молодая женщина с оранжевыми волосами вскидывала на него брови.
– Ты! – восклицала она.
От вида этой женщины у него по коже мурашки бежали. От ее прокуренного голоса. От пылающих, морковного цвета, волос.
– Ты! – говорила она или выкрикивала со смехом: – Фокус-покус! – но к этому моменту Джон обычно уже был за дверью. Каждая такая бестолковая поездка приводила его в смятение. Особенно Морковная дама. Эти ярко-оранжевые волосы. Как она смеялась, вскидывала брови и кричала: «Ты!» – во весь голос – словно она знала.
Обратный путь всякий раз был мучением.
Когда он входил в кухню, отец поднимал на него глаза со словами: «А, явился, малолетний Мерлин»; мать хмурилась, клала ему на стол сандвич и возвращалась к плите. Напряжение усиливалось. Отец некоторое время смотрел в окно, потом хмыкал и говорил:
– Ну, что новенького в стране чудес? Много добра в рукаве приволок?
Джон отвечал:
– Да разное там. Ничего особенного.
Голубые затуманенные глаза отца опять поворачивались в сторону окна, рассеянные и ожидающие, как будто во дворе вот-вот должно было возникнуть нечто небывалое. Иногда он качал головой. Иногда ухмылялся или щелкал пальцами.
«Суслики» наши миннесотские как играют, – говорил он. – Прямо баскетбольная лихорадка. Давай-ка, дружище, закатимся на матч завтра. – Он посылал ему через стол улыбку. – Как?
– Может быть, – отвечал Джон.
– Всего лишь может быть?
– У меня дела другие есть.
Глаза отца медленно, как магнитом, вело к окну, он опять принимался там что-то высматривать. В кухне сразу становилось очень тихо.
– Ладно, вольному воля, – говорил отец. – «Может быть» – уже кое-что, сын. С меня и «может быть» хватит.
Что-то было нехорошо. С солнцем, с утренним воздухом. Вокруг него бушевал пулеметный огонь, пулеметный ветер, и этот ветер словно подхватил его и принялся носить с места на место. Он увидел молодую женщину с разверстой грудной клеткой, без легких. Он увидел мертвый скот. Кругом пылали пожары. Пылали деревья, пылали хижины, пылали облака. Кудесник не знал, куда стрелять. Не знал, во что стрелять. И он стрелял в пылающие деревья и пылающие хижины. Стрелял в изгороди. Стрелял в дым, который отвечал стрельбой; потом он спрятался за кучей камней. Видел, что-то движется – стрелял туда. Видел что-то неподвижное – тоже стрелял. Если в поле зрения не было врага, вообще ничего не было, он стрелял в пустоту с одним-единственным желанием – разделаться с этим жутким утром.
Когда все кончилось, он оказался в жидкой грязи на дне ирригационного рва.
Сверху на него смотрел рядовой Уэзерби.
– Здорово, Кудесник, – сказал Уэзерби. Он начал было улыбаться, но Кудесник застрелил его.
Джона Уэйда выбрали в сенат штата Миннесота 9 ноября 1976 года. Они с Кэти разорились на шикарный гостиничный номер в Сент-Поле, где отпраздновали успех с дюжиной друзей. Сильно за полночь, когда уже все разошлись, они заказали в номер два бифштекса и бутылку шампанского. Кэти всё величала его «господин мой сенатор», а Джон говорил, что это излишне, достаточно «досточтимый сэр»; потом он схватил пустую бутылку, как микрофон, стянул брюки, трусы и запел, плывя по комнате: Пардон, я перебрал слегка; Кэти с визгом хлопнулась на кровать, схватила себя за лодыжки и принялась кататься, выкрикивая со смехом: «Досточтимый сэр сенатор!»; а Джон скинул и рубашку, сделал несколько скользящих движений в стиле Сина-тры и запел: Меня немало жизнь потрепала, и зеленые глаза Кэти были влажными, счастливыми и полными огня, который был только ее огнем и не мог быть больше ничьим.
Однажды вечером третья рота добрела до тихой рыбацкой деревушки на Южно-Китайском море. Ребята провели, как положено, по белому песку внешнюю границу, вволю наплавались, окопались на ночь. На рассвете их обстреляли из минометов. Снаряды большей частью легли в море – плохая наводка, никто не пострадал, – но когда все кончилось, Кудесник, взяв несколько человек, отправился в деревню. Целый час, наверно, всех выковыривали – около сотни женщин, детей и стариков. Уж как они боялись, как лопотали, когда их вели на берег, чтобы развлечь сеансом магии. На фоне морских волн Кудесник показал им фокусы с картами и с бечевками. Вытащил из уха горящую сигару. Превратил грушу в апельсин. Продемонстрировал обычную военную рацию, что-то в нее пошептал – и деревня исчезла. Непростой, конечно, трюк, тут понадобились артиллерия и белый фосфор, но эффект того стоил.
Чудесное солнечное утро. Народ сидит на бережку, стар и млад, и только и слышно что «ох» да «ах», – была деревня, и нет.
– Гудини гребаный, – сказал кто-то из ребят.
В детстве Джон Уэйд проводил долгие часы в подвале, отрабатывая фокусы перед старым зеркалом в полный рост. У него на глазах шелковые материнские шарфики меняли цвет, монетки превращались в белых мышей. В зеркале, где происходили чудеса, Джон больше не был жалким одиноким мальчуганом. Он получал верховенство над миром. Изящно и быстро его руки могли делать то, что обыкновенным рукам не под силу, – поднимать раскрытой ладонью зажигалки, перерубать движением большого пальца колоды карт. Все было возможно – даже счастье.
В зеркале, где Джон Уэйд большей частью жил, он запросто читал мысли отца. Мысли добрые, бесхитростные. «Ну и люблю же я тебя, ковбойчонок», – мог подумать отец.
Или он мог подумать: «Ерунда, школьные отметки – это еще не все».
Зеркало делало это возможным, и Джон часто брал его с собой в школу, или на бейсбол, или вечером в постель. Это был особый фокус – как незаметно уместить у себя в голове старое зеркало в полный человеческий рост. Понарошку, конечно, – это он понимал, – но он чувствовал себя куда спокойней и уверенней, если позади его глаз располагалось большое зеркало, так что он всегда мог скользнуть за стекло, мог превратить дурное в хорошее и просто быть счастливым.
В зеркале все было намного лучше.
В зеркале отец постоянно улыбался. Зеркало делало так, что бутылки со спиртным исчезали из тайника в гараже, и оно же помогало преодолевать напряженное, злое молчание за ужином. «Как там школа нынче?» – спрашивал в зеркале отец, Джон выкладывал кой-какие свои заботы – так, по мелочи, школьные дела, – и отец, опять же в зеркале, говорил: «Не беда, перемелется, жизнь она жизнь и есть. И не забывай, что мы с тобой закадычные друзья». После ужина Джон видел, как отец тихонько пробирается в гараж. Это был самый трудный момент. Тайное пьянство, в котором давно не было ничего тайного. Но в зеркале Джон шел в гараж вслед за ним, и там они вместе стояли в полумраке среди грабель, шлангов и гаражных запахов, и отец точно ему все объяснял, что да почему. «Одну последнюю, маленькую, – говорил отец, – а потом мы все эти поганые бутылки расколошматим». «Вдребезги», – говорил Джон. И отец поддакивал: «Верно, сынок. Вдребезги».
Во многих отношениях его отец был замечательный человек, даже без всякого зеркала. Умница, шутник. Людям нравилось проводить с ним время, и Джону, само собой, тоже; всякий соседский мальчишка, проходя мимо, обязательно останавливался перекинуться с ним футбольным мячом, послушать его байки и прибаутки. Как-то раз в школе, классе в шестом, учительница велела каждому подготовить пятиминутную речь на совершенно произвольную тему, и Томми Уинн взялся говорить про отца Джона, какой он классный дядька, и веселый, и свойский, и всегда-то у него время находится просто так постоять, потрепаться о том о сем. В конце речи Томми Уинн посмотрел на Джона с печалью и укором; он долго-долго не отводил глаз. «Мне одного только хочется, – сказал Томми, – чтобы он был моим отцом».