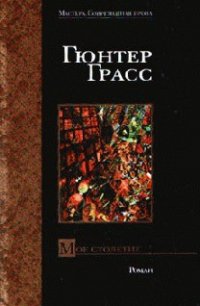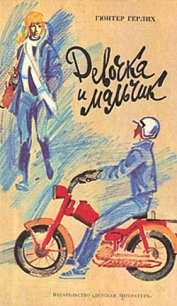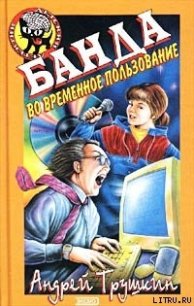Под местным наркозом - Грасс Гюнтер (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .txt) 📗
Я засмеялся было, когда она, вскоре после той своей поездки в Ганновер, все еще с волнением процитировала мне эти перлы выспренности. Но она, расширив глаза, сказала: «Есть в этих письмах места, которые я не показала бы даже вам».
(«Одним словом, доктэр, Ирмгард Зайферт претерпела некое хирургическое вмешательство».) Конечно, она не забыла, что была вожатой «кольца» в Союзе немецких девушек. Время в Гарце ей запомнилось хорошо, она могла рассказать о нем со множеством подробностей. Забота об эвакуированных детях из больших городов, из Брауншвейга и Ганновера. Непомерная ответственность при все ухудшавшемся положении с продовольствием. Ежедневные налеты истребителей-бомбардировщиков на близлежащую деревню. Рытье щелевых убежищ и ее возмущение местным группенляйтером, который в начале апреля хотел забрать из детского лагеря и послать в ополчение тринадцати– и четырнадцатилетних школьников.
Во время наших совместных прогулок вокруг Груневальдского озера или у меня дома, за стаканом мозельского, мы часто говорили, вернее, болтали об этом эпизоде ее юности – как и о моих приключениях в банде. Она помнила, как во всеуслышание протестовала против надругательства группенляйтера над детьми. «Я выразила пламенный протест». Она слово в слово воспроизвела мне тогдашнюю свою речь в защиту мальчиков. «Под конец этот гад смылся. Один из этих мерзких партийных начальников. Вы помните этот тип людей, дорогой коллега…»
Ситуацию, в которой она тогда поневоле оказалась, Ирмгард Зайферт использовала даже как учебный материал: со своими (на уроке музыки) и с моими учениками она говорила «О мужестве как преодолении трусости».
Переворошив содержимое чемодана, она так и не нашла того, чего искала: давних агрессивных, она сказала «антифашистских», суждений, которые она, как ей казалось, не только высказывала устно, но и записывала. Нашлись только эти письма. А в последнем письме она прочла о своем торжестве, когда, обучившись стрелять из ручного гранатомета, стала, по собственному желанию, инструктором по стрельбе. Там было написано: «Наша готовность неколебима. Все мальчики, которых я вместе с местным группенляйтером обучила стрелять фаустпатронами, будут со мной защищать лагерь до последней капли крови. Выстоять или умереть. Все остальное не в счет».
– Но вы же вовсе не защищали лагерь.
– Конечно нет. До этого просто не дошло.
Я переменил тему, заговорил о своих приключениях в банде. «Представьте себе это, дорогая коллега. Я в роли главаря банды. Среди такого организованного единства соотечественников нам ничего не оставалось, как стать асоциальными элементами, порой на грани уголовщины».
Ничто не могло остановить самоуничижения моей коллеги. «Есть и другие письма, похуже…»
Она рассказала об одном крестьянине, который отказался отдать свое поле, примыкавшее к детскому лагерю, под противотанковый ров: «На этого крестьянина я донесла окружной управе в Клаусталь-Целлерфельде, в письменной форме».
– Это имело последствия? То есть его…
– Нет, этого не было.
– Ну так вот! – услышал я свой голос. (Этот разговор состоялся у меня. Я подлил мозельского. Поставил пластинку.) Но и Телеман не помешал Ирмгард Зайферт сказать все, что она о себе думает, до последнего слова: «Помню, я была разочарована, даже возмущена, когда мой донос остался без последствий».
– Чистый домысел!
– Я уйду с работы в школе.
– Не уйдете.
– Я больше не имею права преподавать…
И я уже начал выстраивать успокоительные слова: «Именно в силу своей совиновности, дорогая коллега, вы способны сегодня указать путь молодежи. Иной человек всю жизнь живет ложью и не подозревает… При случае я вам расскажу и себе и об одном „вмешательстве", последствия которого могу осознать только теперь. Вдруг какое-нибудь слово типа „трасс", „пемза", „туф". Или дети играют велосипедной цепью. И уже никакого согласия с собой нет и в помине. Мы вдруг оказываемся нагими и уязвимыми…»
Тут она заплакала. И полагая, что знаю самообладание Ирмгард Зайферт, я понадеялся: слезы – это тоже арантил.
«Ах, доктэр, какое название! (Я приму еще две.) Арантиль могла бы быть сестрой этрусской принцессы Танаквиль. Юную невесту Арантиль ненавидела ее старшая сестра Танаквиль, и поэтому – а также потому, что жених Арантиль внезапно воспылал страстью к Танаквиль, – Арантиль убили, сбросив ее со стен города Перуджи. Позднее ее имя взяла себе одна певица. Помните, подобно Тебальди, подобно Каллас, Арантиль входила своим голосом в сердца и дискотеки. Но дело было скорее, пожалуй, в ее лице. (Оно не то чтобы красиво, но прекрасно.) В расстановке ли глаз, в рассеянном взгляде? Кто из нас помнит ее телосложение? Ее талантом было ее лицо. Увеличенное, на рекламных, высотой с церковь щитах, оно состояло только из точек, которые наш глаз, находя нужное расстояние, старался собрать. В одном провинциальном городишке, в Фюрте, я видел его на столбе для афиш вымокшим от дождей, разорванным, устаревшим – потому что прошло три недели после спектакля. (Кто-то выцарапал на плакате оба глаза.) А чего только не вытворяли с ее фотографиями! Они лежали в молитвенниках. Стояли в рамках на письменных столах очень могущественных директоров. Прикреплялись кнопками к шкафчикам рекрутов нашего бундесвера. Они были везде – то в формате открытки, то на широком экране. Они глядели на нас, нет, через нас. Они глядели мимо любой боли – невозмутимо, покоряюще и облегчающе. (Это-то болеутоляющее действие и побудило, наверно, впоследствии одну фармацевтическую фирму выбросить на рынок одноименный анальгетик от зубной и челюстной боли, который вы, доктэр, каждодневно прописываете: „Я выписал вам две упаковки арантила…") – а при этом лик ее был ужасен, а конец трагичен…
Кстати, о молодом человеке, которого бульварная пресса назвала ее убийцей, долгое время ничего больше не было слышно. Он будто бы был ее женихом. А ведь это вечерние газеты и иллюстрированные журналы, особенно „Квик", вечно этот „Квик", опубликовали тот снимок фотографа. И она же, пресса, виновная в ее смерти, назвала его убийцей. Какое такое уж преступление он совершил? Фотограф, зарабатывающий свой хлеб, как мы все.
Несмотря на трудности, он проник в ее апартаменты в гостинице. Там он спрятался со своим аппаратом под ее кроватью, чтобы в неудобной позе дождаться ее возвращения. Больше того: он ждал, чтобы она переоделась на ночь и наконец – он полагался на свой слух – заснула. Только теперь я покинул свое укрытие. (У нее всегда был хороший сон.) Я отошел со своим „аррифлексом" на небольшое расстояние и сделал один-единственный снимок со вспышкой. Нажала звонок (и закричала, наверно, тоже) бедняжка только тогда, когда я уже спускался в лифте в свою темную комнату. Насколько я знал ее – а я знал ее хорошо, слишком хорошо, – она сейчас была уже мертва. Ибо мой снимок не только принес мне многозначную сумму (которая помогает сегодня оплатить наши мосты „Дегудент"), мой снимок стоил ей жизни. С тех пор она потеряла сон. (Я уничтожил его вспышкой.) На правах жениха я мог заглянуть в ее историю болезни. Через семь месяцев, две недели и четыре дня после того, как я сфотографировал спящий лик моей невесты Арантиль в берлинской гостинице „Хилтон", она угасла, истаяла в Цюрихе – сорок одно кило».
____________________
При этом спящее лицо ее было прекрасно, хотя по-другому прекрасно, чем бодрствующее. Оно было доступно всем для любой надобности. И эта детская, упрямая раскованность удалась тоже, хотя, когда я заставал ее, свою невесту Зиглинду Крингс, спящей в Сером парке среди военного чтива, преобладало ее бодрствующее, неподвижное по-козьи лицо. Но я никогда не фотографировал ее сон. Даже фотографии бодрствующей, всегда целеустремленной Линды у меня нет. Да и зачем. Это прошло. Жизнь продолжается. Ирмгард Зайферт преподает по-прежнему. Было трудно отговорить, ее от задуманного публичного покаяния: «Зачем вам взваливать это на мальчиков и девочек? Каждый должен сам набираться опыта». – Под конец она сдалась: «Сейчас у меня и духу не хватит выйти к классу такой незащищенной…»