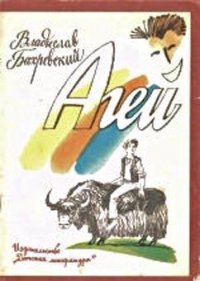Боярыня Морозова - Бахревский Владислав Анатольевич (мир бесплатных книг .TXT) 📗
– Отнеси сиделицам решето печеного луку. Нынче добрые стрельцы на страже.
Агриппина кинулась мужний указ исполнять и попалась.
Расправа у Кузмищева была короткой. Дом Памфила с имуществом на имя царя отписал, супругов по заранее заготовленной грамоте отправил в Смоленск, на выселки.
Родион ушел из Боровска ночью, подался в Олонецкий край, к игумену Досифею. Знал, где его искать.
Кузмищев же, поразмявшись на пытках Памфила, взялся за Марию Герасимовну да за инокиню Иустинью. Мария Герасимовна горько плакала, но перекрестилась, как царь крестится, – щепотью. Ее Кузмищев посадил с бабами-воровками.
Иустинья кресту отцов не изменила.
– В сруб пойдешь, – сказал инокине дьяк.
– К Исусу Сладчайшему! – поправила его Иустинья.
В тот же день страстотерпицу сожгли.
Сначала весело тюкали топоры, а потом смолкли. Запахло дымом, да вкусно, смольем. Ветер донес гул и треск пламени.
– Страшно? – спросила Феодора Евдокию.
Княгиня молча отирала мокрое от слез лицо.
– Страшно, сестрица. Неужто и нас… в огонь? Господи! Господи!
– Пивали, едали, плоть гордыней тешили. Пришла пора платить за безумную, за беспечную жизнь…
– Ради нас пострадала бедная Иустинья. Нас пугают.
– Пострадала ради Христа! – твердо сказала Феодора. – Но и ты права. Се последнее предупрежденье нам.
Княгиня разглядывала руки, будто по ним уже бежали струйки пламени.
– Федосья! Зачем нас матушка на свет родила?
– Об огне-то еще и пожалеешь, – сказала боярыня. – Огонь – скорая смерть. Нас станут убивать медленно. Царю-антихристу надобно, чтобы мы поклонились ему, сатаниилу.
– Федосья! Федосья! Неужто обрубать нас будут? По пальчику, по суставчику?
– Я не прозорливица, да уж знаю государюшку! Мне о нем деверь Борис Иванович много чего сказывал. Посмеивался, бывало: своих-де слов пугается. Кто чего ему скажет, тот и прав. А я свету, Борису-то Ивановичу, и рекла, что из сердца-то пыхнуло…
– Да что же?
– Змеиное-де в царевых слабостях, кольцами опутывает. Так и рекла: «Се – искуситель». Борис-то Иванович поглядел на меня да в лоб поцеловал: «Трудную жизнь проживешь».
– Борис Иванович любил тебя.
– Еще как! «Прииди, друг мой духовный! – говаривал. – Пойди, радость моя душевная!» А как словесами-то да игрою ума натешимся – провожать меня шел до кареты. Усадит, поклонится и скажет: «Насладился я паче меда и сота словесами твоими душеполезными».
– Федосья, милая! Боюсь! Не разлучили бы нас!
– Феодора я, Феодора! Довольно, свет мой, пустое лаять. Бог знает, чему быть. Радуйся даденому. Молись, пока живы. Помнишь, что писал нам Епифаний Соловецкий? Люблю-де я правило нощное и старое пение. А буде обленишься на нощное правило – тот день окаянной плоти и есть… Не игрушка-де душа, чтобы плотским покоем ее тешить. Заповедь его помнишь? Одинаково Бог распростер небо нам, луна и солнце всем сияют. И служат нам повелением Всевышнего силы, невидимые тебе не больше и мне не меньше… Семьсот молитв заповедал читать да триста поклонов. Да еще сто поклонов «Славы и ныне, аллилуйа». И три поклона великих.
Сестры молились. Минул день, другой, третий. Никто к ним не приходил: ни еды, ни воды. Вдруг явились вдесятером, принялись ломать тюрьму. Когда сломали и сестры сидели среди разрушенного, под ясным небом, пришествовал дьяк Федор Кузмищев.
– Другое место для вас приготовлено, государыни! Боже! Боже! По вас вши ходят! Ай да Морозова! Ай да Урусова!
До новой темницы – тридцать саженей. Тридцать саженей неба и света, последнего неба, последнего света.
Их толкнули во тьму, они упали больно, но на мягкое. Ощупали – земля. Сильно пахло землей.
– Покормите их! – приказал дьяк. В яму бросили полдюжины сухарей.
– Воды бы испить! – попросила Евдокия.
– Будет вам и вода, – сказал Кузмищев, посмеиваясь. – Завтра. Не желали жить боярынями да княгинями – живите червями!
И пошло. Завтра вода, а сухари послезавтра. Послепослезавтра – по морковке да по соленому огурцу. И совсем забыли, а вспомнив, опустили на веревке ведро воды. Пейте, сколько влезет. А чтоб оставить хоть ковш на завтра – налить не в чего. Единственная посудина – горсть.
– Величает нас Господь, Исус Сладчайший, своими муками! – крикнула Евдокия тюремщикам, а они люди подневольные, да ведь и храбрые. Один принес в шапке огурцов молоденьких, кинул, а сам руками показывает: скорее подберите.
– И огурца явно съесть не смей! – У Феодоры глаза были сухие, в словах разверзлась могила.
– Расскажи житие преподобного, какое на ум придет! – попросила Евдокия.
– Прохора Лебядника помнишь? Кормил киевлян в голод хлебом из лебеды. Украдут у него каравай – есть нельзя, горек. А который старец благословит – сладок.
– Помню, преподобный еще золу в соль обращал… Ах, и нам бы Бог дал!
– Молчи, глупая! Молчи, миленькая! Неужто тебе слаще жизнь в яме, нежели вечная, пред Господом?
– Торопиться не хочу… Чашу жизни нужно выпивать досуха.
– Помолимся, Евдокиюшка. Пусть остаток дней наших станет молитвой.
Клали поклоны, сколько было сил. От земляного тяжкого духа давило грудь. Валились замертво.
– Чего ради Алексей так яро гонит нас? – возопила однажды Евдокия.
– Мы бельмо ему на правый глаз, а батюшка Аввакум со товарищи – на левый.
Евдокию шатало, но она поднялась. Лицо изможденное, головой клюет, будто в сон ее кидает.
– Федосья! Се могила наша! Ты погляди! – Кинулась к земляной стене, драла ногтями. – Федосья! Федосья! Земля смертью пахнет. Федосья! Да сделай же ты хоть что-нибудь!
– Опамятуйся! Прочь, Сатана, прочь! – Крикнула грозно, а рука легла на сестрицыну голову ласково. – Земля, Евдокиюшка, кормилица.
– Душно, Федосья! Я скоро умру.
– Ну и слава богу! Будешь пред Господом первой. Становись на правило. Срамно нам врага тешить. Было время, в банях духмяными парами себя баловали, угождали телесам вениками, втиранием ароматов. Слава Господу – ныне в телесной грязи перед ним, светом, но в чистоте душевной. В твою душеньку, милая, можно глядеться. Как зеркало сияет.
Молились, клали поклоны, впадая в беспамятство, в сон.
* * *
Инокине Феодоре снилось, что она по-прежнему Федосья Прокопьевна. За столами себя видела. Несут ей слуги яства одно другого изысканней. Ставят, ставят на столы, аж ножки трещат. Ей бы отведать из любого блюда, но чин надо блюсти. То ли Глеб Иванович, супруг, должен за стол прийти, то ли деверь Борис Иванович.
Пробудилась: уж так голодно – брюхо к позвонкам прилипло. Хотела заплакать – сухо в глазах, хотела руки к вискам прижать – мочи нет.
Утром в яму спустили Марию Герасимовну.
Отступничество ее было краткое, смерти испугалась огненной. Тюремщики как усмотрели, что она знаменует себя староверчески, поуговаривали-поуговаривали да и донесли в Москву. Вскоре от царя и патриарха пришел указ – посадить Марию Данилову в глубокую яму.
Обнялись сиделицы, поплакали и давай псалмы петь.
Три дня стражи не опускали в яму ни воды, ни сухарей. На четвертый пришел начальник, кинул огурец. В детской ладошке уместился бы. Феодора и Мария кинулись к еде, аки звери, и замерли. Целый день не притрагивались к огурцу.
А начальник тюрьмы приходил и смеялся:
– Да они у нас сытые!
Огурец страдалицы съели ночью, поделив поровну. Сия пища была для них единственной за неделю. Воду давали, но на смех. Опускали ведро, а вода и дна-то не покрывает. Феодора и Мария смиренно пили по глотку, сначала одна, потом другая. Иной раз второй и не удавалось губ обмочить – ведро поднимали. Бывало, и полное опускали, но еды – никакой.
Не стало сил класть поклоны, голоса не стало петь псалмы.
Изнемогла Феодора. В день памяти Иоанна Богослова, имея в душе один только ужас смерти, принялась звать стражу.
Явился на крики стрелец. Дверь в темницу оставил открытой, знать, страже велено этак. И увидела от света из двери мать Феодора – молод стрелец, без бороды. И спросила: