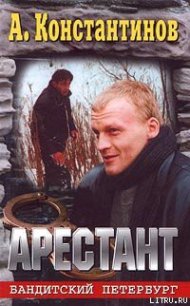Приключения женственности - Новикова Ольга Ильинична (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
Что же предпринять, как заговорить Дунину боль, чтобы первая ее неудача не стала — из-за того, что страшно пробовать снова, — последней. Ни посоветоваться (с кем тут можно советоваться, не предавая дочь? и родная бабушка не годится — хоть через сколько лет, а вспомнит, проговорится, и Дуню это покоробит, даже если рубца и не останется), ни подумать нет времени.
Вот тут и сказался правильно проведенный день, редкий день, когда она не тратила, а копила силы, а ведь и сама не поняла сперва, почему вместо ужина с Нерлиным в ресторанчике возле его московской квартиры предъявила Косте когдатошнюю телефонную исповедь бывшей коллеги, переместив ее во времени и пространстве. Ничего, почти ничего криминального с точки зрения мужа не было сказано-сделано обоими.
Пока Клава-мать лечила собой дочь, Клава-женщина перебирала в уме подробности вечера. Встретила-усадила их официантка, похожая на гимназистку в глухом длинном платье (белого воротничка не хватало), миловидность, приятность которой была и видна, и слышна — так ласково, по-домашнему принимала она заказ, так радостно и открыто отвечала на нерлинские, не поверхностно-ресторанные, а внимательные к ней житейские вопросы — их задают для исследования, изучения человеков, ими же начинают флирт, — Клаву царапнуло, не ревность, нет, но какую-то уязвленность она ощутила и чуть помрачнела, сникла. Нерлин как будто увидел, что ее глаза сузились, уголок губы дрогнул. И когда девочка пододвинула к его правой руке, ребром лежащей на столе, бокал с лужицей красного мерло для пробы (с толком выбирал, не спрашивая о цене), он не торопясь набрал чуток в рот, почмокал губами, проглотил, потом понюхал: дегустировал как знаток, а не на публику работал, сухо кивнул официантке и, обратив улыбающееся лицо к Клаве, спросил про самое главное — про дочь, ее здоровье и ее работу, а потом заговорил о своей аварии, вспоминал о ней подробно, не жалея себя и как бы страхуясь от чужой жалости, да еще и пошутил-предупредил: приходится, мол, ограждать себя от стереотипного «она его за муки… а он ее…». «Вот только жена от всего этого очень постарела», — с горечью проскользнуло. Или с целью какой-то сказал? Зачем? Микропредательство? Какой женщине понравится, если про ее износ с другой говорят? Не может же быть, чтобы так цинично объяснил, что Клава нужна только как более свежая?
Потом, много позже, когда редкие, очень редкие упоминания о доме, о жене стали складываться в хоть какую-то систему, Клава начала понимать, что так он необидно показывает ей, какими прочными нитями связан со своей семьей, и как росла и крепла в нем (не цветок-однолетка, а дерево с мощной корневой системой) ответственность за близких.
— Что это мы все обо мне да обо мне. Давай о тебе поговорим, я ведь так мало о тебе знаю.
— Спрашивайте — отвечаем, — начала Клава отчет, может быть, наивно увлекшись, с детства все-все рассказала. Себе во вред не отбирала, что можно, а что нет.
— Чай мы попьем у меня на кухне?! — спросил-скомандовал Нерлин, накрыв своей сухопарой пятерней безошибочно найденную на столе Клавину руку.
Подумать, разобраться, хочется ей этого или нет, не было времени, мелькнуло только, что как ни обволакивай словами отказ, в любой облатке он будет обиден, и Клава не стала освобождать свои пальцы из плена.
Всю короткую дорогу, которую Нерлин удлинил — расчетливо или нет, только он знает, — покупкой молока на завтра («Ничего, что так прозаично?» — спросил; «Хорошо, что так свободно», — мысленно ответила она), Клава, спохватившись, думала не о нем уже, а о себе, но рассуждала по-чему-то с позиции мамушек-кумушек, и слова подворачивались не свои, а Елизаветы Петровнины: «Что ты делаешь! Одна идешь в дом к постороннему мужчине, как какая-ни-будь…» (именно многозначительное многоточие, а не определенное ругательство, чтобы не клинком слова поразить, а комьями грязи забросать).
Промолчать было невозможно, за послушную покорность она уже дорого заплатила, и, судорожно пытаясь защититься, она пробормотала себе под нос: «Мне интересно у вас дома побывать… но семиотика таких визитов уж очень определенна… Мы чай идем пить, чай и только…» И сразу легче стало. Вопроса она не задавала, но Нерлин его услышал. И ответил ей. Вот из-за этого ответа и не рассказала она ничего Косте, из-за него и своего потом молчания.
«А я и не рассчитывал сегодня ни на что, хотя твои слова внушают надежду», — сказал Нерлин. Будто ногтем по стеклу поскреб, так это для нее прозвучало.
Совсем взрослая Клава, как барышня романтическая, жила в уверенности, что и первое, и последнее слово согласия на близость остается за женщиной, ну, может, не за всякой, а только такой, как она… Эта вера была у нее с юности, как данность, которую ей в голову не приходило проверять или кому-нибудь формулировать. Питалось убеждение это прежде всего Костиным отношением, но не только им, конечно. И комплиментами (бывали такие, которым невозможно не верить, настолько они подходили к ней и больше ни к кому), и многолетними дружбами с семейными мужчинами, и с неженатыми… (стоп, стоп, холостяков-то в друзьях у нее не было), в которых Костя равноправно участвовал или просто знал о них, и мимолетными встречами с неожиданно длинными разговорами, похожими на захватывающие прогулки по незнакомому городу — Елец это или Цюрих — одинаково интересно.
Укрытая уже почти четверть века прозрачным куполом Костиной любви (модернизированная старинная формула «за мужем как за каменной стеной»), не мешающим полному обзору, она была ограждена и от хаотичных, и от целенаправленных ударов по женской гордости, которые другие получают систематически и которые самую глупенькую особу заставляют помудреть. А избалованная Клава (тут Елизавета Петровна права, такая изнеженность просто опасна) посчитала оскорблением и сказанное ей как-то по пьянке «тебя-то я бы трахнул», и с промежутком лет в пять, спрошенное уже другим, «когда же мы с тобой переспим?». Без раздумий, не задержав в себе, выложила сразу все Косте, который оба раза отреагировал одинаково: «Идиот… Забудь». Она и забыла эти экзотические эксцессы, вот и оказалась беззащитной перед Макаром. Но потому же время смогло вывести из памяти безобразную кляксу, оставленную насильником, а ведь случается, что и от меньшего пятна женская судьба, как праздничное платье, отправляется на свалку или превращается в общеупотребительную тряпку.
На кухне Нерлин не позволил Клаве похозяйничать — сам ловко, умело заварил и подал чай. Как сможет не всякий зрячий мужчина. Слепоты своей не стеснялся и не бравировал ею — было в его поведении мужественное, христианское подчинение ударившему его року. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Не спрятался он в испуге от мира, не обиделся, а наоборот, сильнее раскрылся ему навстречу. И компенсировал свое увечье. Клава сразу перестала упираться взглядом в его черные очки — так забывают о безрукости Венеры Милосской…
У порога, провожая гостью, Нерлин сказал — не в потоке разговора, не иссякавшем ни на минуту, а как будто заранее заготовленное: «Ты мне очень симпатична, очень». О следующей встрече не заикнулся даже.
Все это вместе, как витаминный укол, действовать начало не сразу, но неуклонно, и сейчас, ночью, у Клавы была энергия, чтобы поделиться со своим чадом. Ни с какими конкретными приемами психоанализа она не была знакома. Долетало, конечно, кое-что — из радио-телевидения-журналов, приятельницы делились — и те, что спускали излишек заработанной насилием над своими нервами валюты на психоаналитика, и те, что поучились на курсах, чтобы подзаработать психоанализом… Но не станешь же пичкать родную, единственную дочь модным лекарством, к которому быстро привыкают, и от зависимости этой, ясно же, избавляться уже и не захочется.
Клава, привыкнув все и сразу, без промедления, выкладывать Косте, уже начала понимать, как трудно теперь сдерживаться, как возможность пожаловаться на обиду парализует волю, необходимую для немедленной ответной реакции, благодаря которой только и строятся правильные отношения и с коллегами, и с друзьями-недругами, да хоть и с посторонней старухой (чтобы злобное шипение в метрошной давке «патлы-то отрастила!» не нарушило хрупкой внутренней гармонии)…