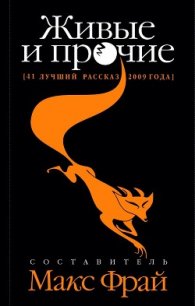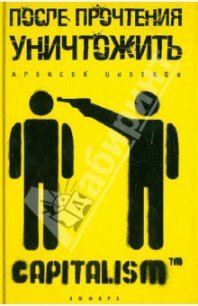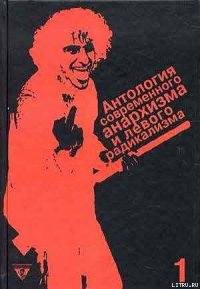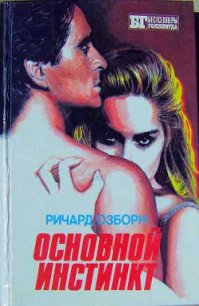Король утопленников. Прозаические тексты Алексея Цветкова, расставленные по размеру - Цветков Алексей Вячеславович (онлайн книга без TXT) 📗
Когда в облачном небе с утра появился ангел в печальной, темной и, наверное, теплой одежде, будто сшитой из влажного пепла, и с алмазно сверкавшим мечом, профессор стоял у окна в трусах и рубашке и повторял одними губами: «Я просто сошел с ума. Это просто шизофрения от перенапряжения мозга. Я не первый ученый, с которым это случилось. Я просто...» Между тем одежда ангела менялась, словно влажный пепел высыхал. Словно ангел думал и приближался к решению, не открывая своих далеких глаз.
Профессор уже знал, что ошибся, но решил упорствовать до последнего. Так бывает и в науке, когда мысленно говоришь: хорошо, вы правы, но хватит ли вас, чтобы меня публично убедить? Профессор смотрел на ангела, не в силах оторваться, щурился от блеска идеального лезвия, измерявшего высоту неба сверху вниз, и беззвучно повторял свою мантру: «Я просто сошел.» Он знал, что теперь достаточно шевелить губами, можно и вовсе не открывать рта, все равно все услышат. Нимб ангела напомнил ему раковину редкой улитки, виденную однажды в горах далекой, нищей и прекрасной страны. Чем больше людей вокруг него выбирало религию, тем сильнее кичился он своим атеизмом (не путать с агностицизмом), позволявшим чувствовать себя отдельно от большинства. «Большинство бывает право, только если меньшинство его научит», — всю жизнь профессор отрицал демократию в науке. «Я просто.» — начал он в который раз. А вдруг это оружие? Внушенные галлюцинации? Фильм «Матрица» сбылся? Вдруг это видят все? «Я просто.» Но тут ангел в небе наконец-то открыл глаза. Профессор перестал бояться. И два неосторожных пикселя скатились вниз по ангельской щеке. Толкование темноты
Я1 был с профессором знаком. Впервые я увидел его клеящим на водосточную жесть объявления с мордой незлой собаки. Она потерялась 16 лет назад. Расклейка объявлений была связана с теорией повторно переживаемых травм, которую профессор проверял на себе. Об этом честно сообщалось и в самом объявлении. Как я выяснил, помогая ему клеить, мелкие млекопитающие в эпоху расцвета динозавров вынуждены были выходить на охоту ночью, и именно это развивало их мозг. В отличие от гигантских ящеров, евших то, что они видят, ночным охотникам приходилось постоянно истолковывать сложные звуковые сигналы в темноте, отличать добычу и приближение врага по звуку и самим издавать все более сложные звуки, что и заложило основы будущего развития речи, как внутренней, так и внешней. Миллионы лет выживания в вынужденной темноте — залог будущей победы текста над миром, слова над непосредственным зрением.
Один из ближайших предков профессора владел березою. Владел и управлял. Мертвую березу у самой воды перед рассветом выпрямляли. Пограничникам невдомек. А ночью, согнув ее в локте, по ней перебирались на мель — река была узка в этом месте — береза работала как мост контрабандистов, бомбистов и прокламаторов. Чтобы общаться со всей этой публикой, предок профессора немного выучил английский, а выучив, обнаружил в классических книгах несколько удививших его фраз. Оказывается, Гамлет, завистливо и вожделенно заглядывая в полые глазницы клоунского черепа, говорит: «Разгадать бы секрет революции!» Внутри березы помещался простейший механизм — гнущееся колено. Такие, наверное, были у Пиноккио, только поменьше. Приходилось кору менять все время, приносить из рощи и клеить новую бересту, чтобы грамотно скрыть эту противозаконную механику. Но пограничники никогда не рассматривали кору деревьев и не запоминали ее подробностей. На память, уезжая оттуда, после того, как граница сильно отодвинулась, предок взял с собою кусок от березового колена и много позже заказал из него сделать на пол отдельную паркетную деталь. Она выделяется в комнате, как лужа на площади, как фальшивая купюра в выясняющих лучах. Стул висит прямо над ней. Он может оказаться оригинальной низкой люстрой, если нажать на выключатель, но не оказывается, да и нажать некому. Капитал без номинала
В вагонных дверях со мною приключился случай. Прощаясь после первого знакомства, профессор протянул мне в метро мелкую монету, и я не сразу сообразил, что это подарок, а не милостыня. На первый взгляд обыкновенный рубль. Двуглавый герб на одной стороне, но когда я перевернул, то и на другой стороне оказался такой же знак: всевидящая птица вместо цифры, означающей номинал. И я рассмеялся. В портретной живописи фас происходит от посмертной маски, а профиль от монеты как раз. Считать так — исторически неверно, но идеологически приятно. Вот только не успел я спросить у дарителя, двери вагона уже сошлись, за сколько и где он купил эту милую безделицу? Сколько стоят такие деньги? На возносящей лестнице я пытался себе представить, как двуглавая птица видит мир, как это — иметь в зрительном распоряжении сразу всю панораму и не иметь никакой зазатылочной тайны, населенной пространственными гипотезами? Или еще интереснее: видеть все вокруг, но ощущать внутри себя, между двумя затылками, нечто всегда невидимое. Позволяют ли шеи птицы ее головам посмотреть друг другу в глаза? Или их общая точка зрения расположена ровно между птичьими затылками, в области старых добрых телевизионных помех?
Сначала я поравнялся с могилами, а потом и перерос их. И уже выйдя на поверхность, захотел, чтобы у светофора когда-нибудь появился еще один цвет — «обязан идти» или «нельзя не идти». Например, ослепительно-белый, с восклицательным знаком вместо человечка. Или какой еще цвет и знак можно выбрать? Люди мечтают об этом с античных времен.
На улице я поднял пулю, случайно оброненную какой-то из сторон неактуального более конфликта и лежавшую в фигурной бордюрной щели маленьким музейным экспонатом, не всем заметным подтверждением того, что стрельба, в которой ей так и не удалось полетать, никогда не возобновится, смотрите ее в кино. Эту пулю срыгнула история. Разрешения спрашивать было не у кого. Я поднял пулю и посадил ее в цветочный горшок на своем столе, а точнее, во влажную землю с одной знаменитой могилы. И начал чувствовать, как робко, еле-еле, не веря самому себе, из моей пули сквозь землю поднимается росток. Сквозь черную рассыпчатую плодородную кашу кладбищенского небытия он пробивает дорогу. Я слышу это как невероятно медленную музыку. Однажды я принесу растение к тебе домой. Ведь это гораздо приятнее обеим сторонам — дарить цветы в горшках.
Почему бы, впрочем, не написать о себе «он», возможно, так расскажется больше правды? Вы в это верите? Он входит в метро без пяти десять, то есть на платформе только опоздавшие на работу или бездельники. Никто из растоптанных офисным фашизмом не примкнет к нам — думает — они ищут себе новый офис, получше. Никто из преданных мужчинами не примкнет к нам — думает — они ищут мужчин понадежнее. Никто из обманутых духовными учителями не примкнет к нам — думает — они бегут в новую церковь, подуховнее. Никто из...
Но тут вырастает поезд очень шумно и думать становится неудобно. Из дверей подъездов в город уже высыпаны тысячи буржуазных шлюх с угасшими глазами, уверенных, что, продаваясь, они серьезно продешевили, т. е. проявили святость. Они ждут за это вознаграждения от судьбы, недовольные ее медлительностью день ото дня все больше. При этом они лелеют мечту однажды перепродать себя подороже, и бог с ней, со святостью. Из тех же дверей вышли тысячи ковбоев без стад и рыцарей без Иерусалима. К мужчинам, впрочем, он относится лучше, они его просто не волнуют. На этом основании — отсутствие ненависти к мужчинам — он считает себя гетеросексуальным.
Или про «я» лучше рассказать через отношение к другим, отношения с другими, лучше всего подходят личные отношения? Тем более что гетеросексуальность, заявленная выше, в наше время требует подтверждений. Ты плачешь молоком?
Они строят голодную стену. Складывают одну на другую буханки черного хлеба, густо смазывая их цементом. Создавая голод. Стена растет Хлеб вбирает цемент. Я смотрю на их работу и думаю о тебе, моя любимая кукла. Будь ты счастлива и проклята.
— Это будет стоить? — спросил я, легко расстегивая твою верхнюю пуговицу.