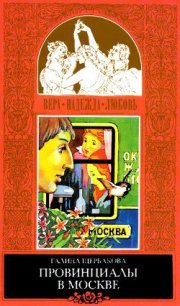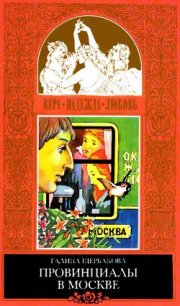Ангел Мертвого озера - Щербакова Галина Николаевна (бесплатная библиотека электронных книг .txt) 📗
Ну, откуда ты взялся, Глеб? Был бы ты подраненный или с воспаленным аппендиксом, застрял бы у тебя в выходах камень, отросла бы киста – как бы я была счастлива помочь тебе и выходить тебя. Ты же здоровый, и ты мне никто и звать тебя никак.
Но книжное воспитание требовало хорошего отношения к человеку, если он к тебе со всей душой. Она с ним встретится, к примеру, у памятника Пушкину или где еще, посидят на лавочке, а потом она соврет, что у нее смена, и он, если захочет, может проводить ее до электрички.
«Мне ужасно жаль, но больше я никак не могу. Если хочешь, позавтракаем вместе в пятницу». (Господи! Какие завтраки?) «До свидания, милый».
Конечно, так ей не сказать. «Милый». Какой он ей милый? С другой же стороны, и милый, если через столько лет нашел. Но она всегда помнила, сколько ей самой, она родилась в сорок восьмом, и ей, соответственно… И думать, а тем более держать во рту это слово «милый» негоже и стыдно. Но пока это только переписка, и больше ничего, и совсем не факт, что он когда-нибудь объявится в Москве. Сейчас цены на билеты выросли в нечеловеческий рост, даже на электричке – подумаешь лишний раз, ехать или не ехать.
Комплексы
Когда я злюсь, у меня салятся волосы, даже если я их вчера вымыла. После ухода «гостьи из прошлого» я просто зашлась от того, что как всегда попалась на эту дурью удочку – не могу отказать. Кто она мне, эта Вера Разина, я ее не видела тридцать лет. С какой стати мне отвечать за ее сороковины? Ах, ах, шо, шо… Моя родина – уже другая республика. Практически для меня – железный занавес. Я на батькивщине последний раз была проездом из Лазаревской, в поезде меня прихватил приступ, пришлось ссаживаться. И мне вырезали готовый лопнуть к чертовой матери аппендикс в Константиновке. Там я напилась ридной мовы по самую маковку.
Тут нет дурного подтекста. Лежа в палате и слушая перепевы забытой речи с этими «хэ», «шо», «та», «хиба», «дывись», я ловила кайф от всего этого. Я призналась, что местная, и народ стал искать родственные связи, общую кровь в жилах. И я была поражена: она на самом деле, наша кровь, говорит своим национальным голосом? Не зависимая от группы, количества лейкоцитов, реакции оседания и прочего, прочего. Есть в ней нечто, не пропущенное через реактивы. И я не знаю, как к этому относиться. Во-первых, бурлит кровь чеченцев, и басков, и ирландцев, и добром это не кончается, особенно, не дай Бог, если забурлит русская. Это уж святых выноси. А я по воспитанию, по культуре интернационалистка. Человеческое в человеке едино, оно где-то на кончиках ветвей разнообразится цветом кожи и разрезом глаз, а в остальном мы единый сплав разумного млекопитающего. Но почему же так сильны те кончики, которые выпевают мелодию крови так, что одни хватаются за ножи, а другие вытирают умилительные слезы? Что это есть? Может, и не кровь вовсе? А некий другой субстрат?
Я была потрясена взрывом. То, что внутри него оказалась когда-то знакомая мне Вера Разина, обострило все до шока. Я просто видела эту карту горя: тянущиеся во все стороны капли крови к близким и дальним родственникам, знакомым, сослуживцам. Получилась карта-сюр в красный горошек, ну, а если представить еще другие диверсии, Чечню и положить весь красный крап на Россию, то и не увидишь лесов, полей и рек, а одно только кровавое озеро. И я шкурой, доставшейся мне по закону эволюции, чую, не чувствую, не мыслю, а чую именно, как зверь, страхом и нюхом своим безысходность жизни.
И еще я думаю о том человеке (человеках), который нес с собой бомбу. Всплывают в образовании романтические бомбисты Вера Засулич, Кибальчич, улицы их имени как бы утверждали право на убийство. А вдруг и эти, сегодняшние, возникнут через сто лет в рамочке, ах, как они хотели хорошего! Чудовищная мысль, но что делать, мысль пришла, и «я ее думаю». Конечно, легче сказать, что это был Чикатило, безумец, маньяк. А если нет? Если это тихий серый человек с идеей? Незаметный в толпе, достойный служащий и семьянин? Встал и пошел. Но какой же идеей надо вдохновиться, чтобы убить медсестру Веру Разину? Легче, конечно, думать, что это «чеченский след», еще легче, что это потрошитель крупного разлива. А вдруг это женщина с той мерой отчаяния, после которой уже можно все?
Нет, это все-таки мужчина, не бандит, не маньяк, очень идейный бомбист нашего времени. Он хочет «рамочки» и «улицы» через сто лет. Я рисую его себе. Он носит светлые костюмы с искрой. У него носки всегда в цвет галстука. Он вежлив, худ и подтянут и состоит только из ненависти, из нее одной, что не мешает ему иметь детей, мальчика и девочку, кудрявых, как Женя Кисин.
Великая спасительница – домашняя работа. Ко мне придут люди, и мне надлежит накрыть стол. Я не вовлекаю в этот процесс мужа, не зову на помощь дочь. Они у меня вне быта, а мероприятие, которое грядет, может их повергнуть только в недоумение. И мне придется перед ними оправдываться, лишний раз демонстрируя свою несвободу от них. Хотя можно ли быть свободным от тех, кого любишь? И нужно ли? Комплексов выше головы. Ну что ж… Поперебираю их, любезных… Ком-компле-комплексу-комплексушечки мои родненькие. Их, как родинок на моем теле. Родинки – это, говорят, к счастью… Ну-ну…
Ночью во сне ко мне пришла Вера. Та, молодая, что сказала мне когда-то, как завидует моему отъезду. Она была в прошлом времени, я в своем, в котором ее уже не было. Мы с ней стояли у лифта, я приглашала ее зайти, одновременно беспокоясь, правильно ли звать в дом мертвую. Но Вера сказала – нет, она торопится, просто хотела спросить, помню ли я акацию на могиле ее бабушки. «Еще бы!» – сказала я. – «Дело в том, что дерева уже нет, там теперь гаражи». – «Я так давно не была в тех местах», – ответила я. «Я до сих пор тоже», – сказала она.
Она вошла в лифт, и он сразу стал спускаться с открытыми дверями, и я видела уходящую вниз выстриженную светлую макушку со следами от кровавых бинтов.
– Вера! – крикнула я ей вниз.
Но дверь с клацаньем сомкнулась, и я проснулась. Во рту был вкус акации – мы в детстве любили ее есть, но никогда она не была соленой, поедание акации было сладким весельем, а сейчас я солоно плакала, уткнувшись в подушку.
Бомба
Плоть не беспокоила Ивана Ивановича уже с сорока лет. Вернее, с тридцати девяти с половиной. Он январский, а на майские праздники, те, что до января, а не после, плоть себя не оказала. Гуляли у соседей, тогда жили в коммуналке на Каляевской, потом пошли спать. Дочка уже сопела за гардеробом, стоящим поперек комнаты, но в старых квартирах в комнатах случалось по два окна, так что нельзя сказать, что дочь спала за гардеробом, как какая-нибудь домработница, нет, у нее было окно и как бы своя комната. Жена разделась и легла на кровать на спину, чуть приподняв ночнушку, чтобы он видел ее кучерявость, хотя лампа в ночнике на сорок ватт, но расстояние совсем близкое, в протянутую руку.
Он спал у стены, и пока перешагивал телом жену, увидел этот ее трюк с рубашкой, и, странное дело, он ее возненавидел. Сразу вот так, на секунду зависнув над лежащей, он испытал острое негодование против женщины с тонкими синими после родов ниточками на бедрах, с этим черным подлеском в середине. Он плюхнулся на свою половину и резко повернулся спиной к жене. Та засопела – обиделась, он же на всякий случай сверил рукой состояние гнева в голове с тем, что у него жило внутри его кучерявости. Плоть как бы спала, такая родная и целомудренная мягкостью своей плоть. А за спиной ворочалась женщина, тыкалась в его спину грудями, и это было уже сверх. Он почти влип в стенку, стал плоским и холодным, и, конечно, она отстала. Ну, а так, чтоб сказать или спросить, это у них не было заведено.
Сношение всегда было молчаливым, ни до него, ни во время, ни после слов не существовало. Поэтому к утру все забылось, вспомнилось вечером. Жена тогда учудила переодевать ночнушку, когда он уже лежал. И торчала незнамо сколько голой, разворачивая перед ним то один бок, то другой, зачем-то приподнимала груди, и они мощно смотрели на него, спокойно и смирно лежащего, выставленными из глубины сосками. «Фу!» – подумал он и резко повернулся на бок к стене, а эта дура-жена осталась голяком на виду окна; ну покрутись, покрутись еще, – думал он, – самка. Жена легла и снова горячо прижалась к его плоской спине, а рука ее заскользила куда-то не туда, где ей положено быть, и он так перехватил запястье, так его сжал, что она пискнула, как мышь, придавленная кошкой, быстро скрыла руки и развернулась к нему спиной.