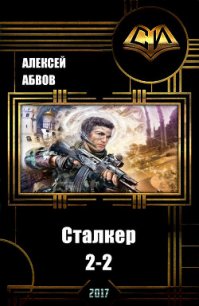Война - Селин Луи-Фердинанд (бесплатные версии книг .TXT, .FB2) 📗
— Ничего, давай не будем возвращаться вместе, — предложил Бебер,— я пойду через сад, а то мне с моей ногой тяжело спускаться по ступенькам. А ты иди низом.
Так что я открываю дверцу. Я стараюсь не шуметь. Иду не спеша. Правда под ногами все равно поскрипывает. На мгновение я застываю и всматриваюсь в темноту. Неподалеку есть еще одна дверь с полоской света снизу. Я направляюсь к ней. Я все делаю так, чтобы меня не было слышно. Но из-за гула в ушах мне трудно определить, насколько мне удается не шуметь при ходьбе. Все же я подхожу. И отчетливо различаю характерный стон гвоздя при вхождении в дерево, а следом еще и скрип прогнувшейся доски... Я сразу понимаю, что там внутри кто-то заколачивает гроб. Конечно же, это упаковывают того овцеёба. А хоронить будут завтра. Вряд ли станут тянуть. Наверняка от этого овцёеба решили побыстрее избавиться из-за гангрены, уж больно сильно он вонял даже сквозь карболку. На койках в лазарете лежали и другие, но они так не воняли и могли подождать. И хотя я стоял за дверью, я расслышал еще и чье-то бормотание, однако это не был голос местного столяра, толстяка Эмильена, которого здесь все хорошо знали, он постоянно был слегка навеселе, и манера говорить у него была соответствующая. Кто-то молился, причем на латыни. Но разве могла какая-нибудь послушница прийти туда именно сейчас замаливать грехи?
Я заинтригован. Какое-то мгновение я колебался. Так ничего не узнаешь, если только туда заглянуть. Достаточно было чуть приподняться над перегородкой, и ты фактически в чулане. Я стал искать лесенку и в итоге взобрался на пустые коробки. Получилось довольно шумно... Я смотрю. Слушать мешают отголоски артиллерийских выстрелов, от которых вверху дрожали стекла, но и здесь, в подвале, тоже все вокруг содрогалось. Я всматриваюсь повнимательнее. Важно было успокоиться. Забавно, я все еще боялся себе в этом признаться, но я почти не сомневался... Я слышал голос Л’Эспинасс, мне сразу показалось, что это она говорит по-латыни. А теперь она взялась за дело. Можно было подумать, что решается вопрос ее жизни и смерти, так ей не терпелось открыть этот ящик. Она старалась протиснуть в щель слесарное зубило, раздавался жуткий скрежет. Эмильен ведь уже заколотил гроб.
Она орудовала обеими руками, совершено их не жалея. При свече мне не слишком хорошо было видно ее лицо, мешала вуаль, к тому же она склонилась к крышке. Запах, похоже, ее не пугал. В отличие от меня. Я даже не пытался что-либо понять, но вдруг почувствовал, что стал свидетелем чего-то глубоко личного. И решил больше не медлить. Я легонько стучу по перегородке. Она подняла голову и в свете свечи заметила меня в двух метрах от себя.
И тут она меня испугала. Я даже слегка отшатнулся. Ее лицо было искажено, но не гримасой, нет, а само будто стало одной сплошной раной, смертельно бледной, истекающей слюнями и трясущейся.
— Пусть твоя харя кровоточит, — сказал я ей, —кровоточи, дохлятина!
Я не хотел ее оскорблять, а просто говорил первое, что приходило мне в голову. Поток слов сам извергался из меня, и их смысл в этот момент был не важен. Я потерял равновесие. И толкнул дверь клетушки.
— Пусть льется кровь, пусть кровоточит!
Глупо было так говорить, но это все, что я смог сказать. Тогда она ринулась ко мне, стала меня целовать и тереться лицом о мое лицо, будто это меня она обнаружила в гробу, при этом она вцепилась в меня обеими руками, и, мало того, ее всю трясло. А потом она вдруг обмякла, отяжелела и соскользнула вниз, но я ее подхватил.
Она едва не потеряла сознание.
— Алина [17], — сказал я, — Алина!
Это было ее имя, я слышал, что в палате так к ней обращались. Постепенно она пришла в себя в темноте.
— Я поднимусь наверх, — сказал я ей.
— Разумеется, Фердинанд, мы обязательно завтра увидимся, до встречи. Мне уже лучше. Вы такой милый, Фердинанд, я вас так люблю...
И она пошла через улицу. Она окончательно стала прежней. А наверху меня уже заждался Бебер.
— Я уж решил, что тебя засекла консьержка, — сказал он мне.
Он недоумевал. Но я не собирался ему ни о чем рассказывать, ни ему, ни другим. Иногда нужно проявить твердость, чтобы никому не навредить, да и в будущем это могло мне еще пригодиться, так и вышло.
***
Особых улучшений я уже не ждал. По утрам я чувствовал еще большую усталость, чем накануне, так как из-за шума в голове просыпался ночью по два-дцать-тридцать раз. От этого не просто устаешь, а чувствуешь себя совершенно разбитым. Все знают, как важно высыпаться, чтобы быть полноценным человеком. У тебя даже на то, чтобы свести счеты с жизнью, сил не остается. Настолько это выматывает. Вот Каскад [18] по утрам во время перевязки чувствовал себя бодрячком, хотя ногу ему до сих пор так и не вылечили. Скоро ему собирались удалять еще две фаланги, гниение продолжалось. Ходить ему было строго противопоказано, даже в тапках, благодаря чему он также являлся объектом особой заботы мадмуазель Л’Эспинасс... Чего-то более конкретного я об этом от него никогда не слышал. В любом случае слишком рисковать он бы тоже не стал.
— Сиськи у тебя зачетные, а звать-то тебя как? — спросил он у подавальщицы, когда мы пришли во второй раз.
— Амандина Дестине Вандеркотт.
— Надо же, какое красивое имя, — прокомментировал Каскад с деланным восхищением. — И давно ты здесь работаешь?
— Два года.
— Так за это время ты весь город, наверное, узнала? Всех жителей! А Л’Эспинасс ты тоже знаешь? У женщин ты тоже сосешь?
— Да, — сказала она, — а вы?
— Я тебе как-нибудь обязательно об этом расскажу, но только после того, как засажу тебе в жопу, сучара, не раньше! Какие все же забавные, и такие недоверчивые эти девки! Всё хотят знать заранее!
Он говорил с подчеркнуто показным негодованием, изображал обиду. Ему явно хотелось произвести на меня впечатление. Правда со мной ему все же было не так просто, как с Амандиной Дестине. Ничего более впечатляющего она еще наверняка никогда не видела.
Мы наведывались теперь туда каждый день в полдень, сразу после обеда, в кафе Гиперболу на Большую площадь. Там в углу у нас был свой столик. Мы видели всех. А нас — никто. Наши вылазки из Девы Марии Заступницы являлись объектом всеобщей зависти. Л’Эспинасс даже заставила нас клятвенно пообещать, что остальному сброду в палате мы объясним, будто ходим на ежедневные сеансы лечения электричеством.
— Идёт! — сказал я малышке Л’Эспинасс.
Я решил учиться говорить, как Бебер. Но тайком ото всех. Беберу тоже было знать не обязательно. Забавно все-таки он вел себя в жизни. Все делал по-тихому. Даже говорить предпочитал, прикрыв рот ладонью, за исключением случаев, когда начинал обсирать Амандину Дестине, придумывая для нее всякие диковинные прозвища, каких она в жизни не слышала, та сновала туда-сюда вдоль стойки и прямо клохтала от удовольствия, а он через раз безжалостно что есть силы щипал ее за ляжки. Вот такой Бебер был изувер. Через восемь дней или чуть позже мы снова пришли в Гиперболу за занавеску. Бебер наблюдал за перемещавшимися по площади войсками, горожанами и офицерами. Его интересовала форма армий всех стран. Амандина Дестине ему помогала.
— Вон там на углу, напоминает замок, это штаб англичан. А те, у кого кепи с красными лентами, они самые богатые.
Она знала это по чаевым.
Стоило мне утром проснуться, как я слышал голос [Каскада]. Он сообщал мне новые подробности об Анжеле, какие у нее были настоящие, цвета красного дерева, волосы, доходившие ей до бедер. Как она трахалась, могла кончить двенадцать раз кряду. Бесподобно просто. Еще она иногда [подворовывала]. С пожарником один раз вообще офигеть, что было, и это все правда...
— Сам увидишь!
Бебер ничем особо не заморачивался. Лишние мысли у него в мозгу подолгу не задерживались. А я хотел побыстрее восстановиться. Мне бы это не помешало. Жизнь становится совсем невыносимой, когда у тебя не встает. Нельзя мириться с такой несправедливостью.