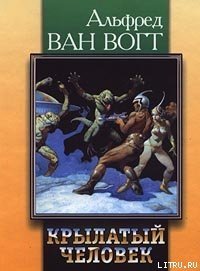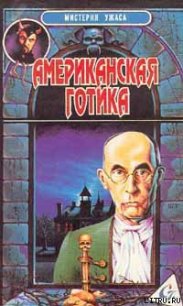Современная американская повесть - Болдуин Джеймс (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Когда я был маленьким, всем разрешалось учиться чтению… Вот что по крайней мере правда: как-то, возвращаясь с репетиции оркестра (мы жили на Хау-стрит), я запустил левую руку в трусики к девочке по имени Марион. Потом я презирал ее… Отец хотел научить меня играть в шахматы, но, когда тянулся к пешке или туре, его дрожавшие пальцы задевали и опрокидывали крупные фигуры — короля, ферзя, слона. Я плакал от злости… Когда я работал в «Сирз», я однажды украл смеситель и подарил матери на день рождения…
Нет, все не то! Эти мелочные признания в сумме не образуют сколько-нибудь особенного человека.
Мне бы хотелось сплетать памятные нити материнской доброты, отцовских упований, но это — главное — не дается в руки, оно призрачно, неотчетливо.
А отчетливо я слышу звуки музыкальной шкатулки: «La ci darem la mano…» [27] Перезвон колокольчиков воскрешает место и обстоятельства. Нам по двадцать. Приятель привел девушку. Это был третий год трудовой повинности; помещение, где мы спали, строилось под школьный спортивный зал — металлические стропила вместо потолка, раздолье для эха; кому-то из наших и принадлежала та музыкальная шкатулка. Приятель попросил на одну ночь поменяться с ним койками: моя была у стены, и он думал, что у меня ему будет лучше, чем у себя — у всех на виду. Когда я вызываю в памяти серебряные звуки шкатулки (то место, где Церлина выдыхает: «Andiam! Andiam!» [28]), я вижу лицо той девушки потом; ничего у них хорошего не получилось, и она винила себя, говорила, что у нее «все не как у людей». Мне предстояло проверить это самому.
Может, с моей девушкой мне удастся разговориться о «Дон Жуане», когда мы усядемся на край комода и упрем ноги в ящик. О «Кавалере роз». Об «Отелло». Но все эти разговоры о музыке будут лишь зашифрованными воспоминаниями о желании и попытках получить от другого то, что можно было в ту минуту получить.
И все же я убежден, что даже в нашем, как семечками, набитом людьми Нью-Хейвене я способен сохранить верность, преданность запропастившемуся близкому человеку. Моя жизнь — поиск. Мельком увиденная краешком глаза ненапряженная щека таит бездну возможностей. Я узнаю хороший набор, не открывая карт. Мне достаточно приглядеться минуту-другую, и я скажу, ладят супруги между собою или нет. Моя мать ходила за больным отцом двадцать два года — и обожала его все эти годы. Она сбивалась с ног, разыскивая ему в аптеках траву от запоров, и при всем том молилась на него. Они стоили друг друга. Повышенного голоса я в доме не слыхал.
Жаловаться не хочу, но им было полегче. При их жизни в домах еще было место для стен. Им редко приходилось подолгу стоять в очередях, разве что сманит какой-нибудь исключительный фильм.
Сколько случайности, отчаяния в моем поиске: каждый день сотни тысяч лиц и их фрагментов перетекают в мое сознание из очередей.
— Кстати, — спрашиваю я громко, — как вас зовут?
Я всегда был уверен, что имя отчасти выражает характер человека. Иначе и быть не может: его выбрали люди, ответственные и за генетическую информацию, и за воспитание в семье. Назовите кого-нибудь неверным именем, и вы навсегда скроете под маской его лицо. Какая беспечность! Четыре часа простоять за нею в очереди, почти расписаться в преданности и постоянстве — и не удосужиться узнать имя!
Она что-то говорит, но в этот момент мне прямо в щеку чихает мусорщик, и я ничего не слышу. Девушка выжидает, на много ли его хватит.
— Апчхи!
Вроде бы все. Хватило на два раза. В глазах слезы. Меня ненавидит по-прежнему.
— Мейси.
Я снова настраиваю глаза на ее шейный пушок, буду думать об этом имени. Я вдруг узнаю бесконечно много нового о девушке.
Опять перехожу на шепот.
— Почему вы засмеялись, когда узнали, что меня зовут Сэм?
— Очень обрадовалась. С этим именем всех любят — что людей, что собак, что котов.
Положительно неглупая девушка.
— Ну, нет, — скромничаю я, благо это можно себе позволить, — меня многие не любят.
— Неправда, Сэм, — говорит она в полный голос.
Лучшего ответа я не ожидал.
Я не люблю, когда мне чихают в лицо, и острое чувство неприязни растравляет меня. У меня полное право подавать любое прошение, какое пожелаю. Я не пустышка вроде бабули, чтобы от скуки таскаться по очередям. И не болван вроде Подковки…
— Надеюсь, это всего-навсего сенная лихорадка, — говорю я мусорщику. — Я бы не хотел благодаря вам получить летом насморк.
Застигнутый врасплох, мусорщик сразу принимает изголодавшийся вид. Я едва удерживаюсь от смеха, глядя на его голодную собачью физиономию с огромным носом и треугольными собачьими мешками под печальными, близко посаженными собачьими глазами.
— Это от жары, — говорит он. — Я перегрелся, поэтому чихаю.
И тут я вижу, как кровь отливает у него от лица. Ему не по себе, что его слова могут показаться оправданием. Не голод — злость его гложет.
Мысли по-прежнему путаются: мой кошачий хвост; возникшее имя и необходимость увязать с ним человека; грезы о будущем и о ногах, удобно поставленных на ящик комода; вдобавок где-то с краю мой мозг сверлит пчела, и я трепещу — а вдруг у меня аллергия на ее укус?
Пожалуй, напрасно было связываться с мусорщиком из-за такого пустяка, как два чоха. Он буквально исходит злобой. От моего прошения о дополнительной площади он ждет для себя всех мыслимых и немыслимых бед. Полагаю, он даже не особенно задумывается, так ли ему самому приспичило то, за чем я стою. Кроме того, он, видимо, из тех, кто не переносит скованности в движениях: слева напираю я, справа выворачивают руку прохожие, спереди не дает продохнуть учительница, сзади подпирает примыкающая моих примыкающих, о которой я еще ничего не разузнал — коренастая чернокожая женщина, все время вздыхает, приговаривая: «Господи», «О-хо-хо», «У-у-ф».
А с площадью, если задуматься, у мусорщика все не так плохо. Всю ночь он на лестницах один. Работа не из приятных, зато долгие часы он общается только с гулкими лестничными пролетами. Опускаешься на колени, видишь уходящие вверх марши лестницы. Лестница в известном смысле не стоит на месте — она куда-то ведет, она поднимается, разворачивается и уходит все выше и выше. Очень хорошее место, чтобы побыть одному. Что еще нужно? Никто не стоит над душой.
У него же, я вижу, из головы нейдет его собственный вздыбленный дом, эта свалка семейного имущества на одиночной площадке, увенчанная качалкой.
А может, сбивая ночами колени на лестницах, он страдает и думает только о том, как измызгал эти ступени миллионноногий город. В ушах: шарк-шарк-шарк. Мне приходилось давиться в очередях на лестницах. Представляю, какие картины он себе воображает. Очень может статься, что, пока его руки оттирают грязь, воображение не отпускает его в одиночество и город давит ногами его мокрые руки.
Сейчас он испепеляет меня струями гнева из своих узких глазных сопл, он говорит:
— Я всем объявлю, какое у тебя прошение.
И решительно тюкает носом. Я хорошо понимаю, кого он имеет в виду под «всеми».
— Занимайтесь лучше своими делами, — холодно отвечаю я.
Но я совсем не уверен, что мне удается скрыть тревогу. Он прирожденный заводила.
Я помню запах его подмышек; помню, как, сжав кулаки, од отбивал нам всем ритм.
Странно, как мне такая мысль пришла в голову: что клены в «Зелени» шепчутся между собой: «Роща, роща, братец лист!» Брат (или сестра) — мы такого не знаем уже второе поколение. На семью разрешается один ребенок — если вообще разрешается. Для меня «братство» такая же книжная абстракция, как «крестьянство», «королевская власть», «рабство». Вот и сейчас в моей голове разыгрывается поразительный книжный сюжет: мы братья — я и мусорщик. Мы братья в маленьком абзаце на тему трудных отношений. Поскольку девушка ему безразлична, он обижается, что я шепчусь с ней. Что до меня, то я с братской тревогой замечаю в нем черты, которые наверняка есть и во мне самом, а мне бы таких черт не хотелось.