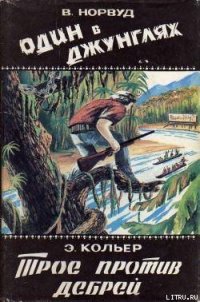Хрустальная сосна - Улин Виктор Викторович (полные книги txt, fb2) 📗
А Инна… Мое предчувствие, охватившее меня давным-давно, когда я провожал ее на самолет еще летом восемьдесят четвертого, перед стажировкой в Москве, оказалось верным. Из Америки она так и не вернулась. Более того, я вообще не видел ее с того самого дня, когда помахав с чужим, сияющим лицом, она скрылась за дверью аэропортовского накопителя.
После того, как следующей весной ей продлили американскую стажировку до полутора лет, я уже знал абсолютно точно, что Инна больше не вернется. Кажется, через год или чуть раньше она позвонила и, не скрывая радостной дрожи в голосе, сообщила о защите докторской диссертации или еще что-то в этом роде, и контракте на работу в Америке, предложенном на три года.
Три года означали навсегда. Мы хоть и расстались фактически, но оставались формально мужем и женой. Возможно, я мог потребовать, чтобы она вызвала меня к себе. Но кем бы был я тогда в Америке — увечный и пока не умевший ничего особенного? Уборщиком посуды или просто приживалом при жене? Впрочем, Инна не сказала ни слова о вызове; эти мысли пришли ко мне уже потом. Более того, уведомляя меня об американском контракте, она именно уведомляла. Думаю, сама она решила свое будущее уже давно. Прощаясь со мной, никчемным, в нашем аэропорту. А, возможно, и еще раньше; в ее далеко идущих планах мне вообще не отводилось сколько-нибудь серьезного места. Впрочем, мне это было уже безразлично.
Потом еще через некоторое время из Америки пришли официальные бумаги — она просила дать ей развод и одновременно представляла полный отказ от прав на квартиру и другие формы совместной собственности. Я все подписал, сделал переводы, заверил у нотариуса и отослал ей. Совершенно спокойно и без эмоций; я уже давно знал, что она не вернется.
И сразу же, как представилась возможность, я обменял жилье. Это оказалось нелегким делом: ведь прописан я был у родителей и формальных прав на площадь жены не имел. Помогли отказные бумаги из Америки; кроме того, мне пришлось-таки обратиться во врачебную комиссию, получить инвалидность второй группы и только потом, вместе с причитающимися льготами, я сумел завладеть квартирой. Мне пришлось преодолеть массу препятствий, да и сама эпопея с признанием меня инвалидом тоже принесла мало приятного. Но я превозмог себя: мне не просто хотелось, а во что бы то ни стало было необходимо зачеркнуть прошлое; оставить позади все, что хоть как-то напоминало прежнюю жизнь. Например, не видеть больше близлежащий бульвар, в котором мы часто прогуливались с Инной перед сном. И избавиться от некоторых соседей по дому, которые до сих пор бросали на меня сочувствующие взгляды.
К тому времени умер дядя Костя, ставший за последние пару лет моим постоянным собутыльником и единственным другом. В восемьдесят пятом году, в самый разгар горбачевской охоты на ведьм, пьяненький, он совершенно глупо угодил во дворе под антиалкогольный патруль. Несколько часов его, свободного и независимого пенсионера, продержали в отделении — и сам этот факт произвел на дядю Костю такое воздействие, что вернувшись домой, он наутро свалился в параличе, да так после него и не встал… Тайком попивая дрянную водку из замаскированных под компот стаканов на дяди Костиных поминках, организованных соседкой Марьей Алексеевной в заводской столовой, я испытывал грустные исторические ассоциации. Я думал, что во времена возлюбленного дядей Костей генералиссимуса людей сажали на десять лет за десятиминутное опоздание на работу; сейчас, на волне параноидальной борьбы с алкоголизмом, трагедия повторилась в виде дешевого фарса. Как дешев был по сути и сам наш плешивый спиртоборец, которого покойный при жизни не раз привычно называл «этим шибздиком», добавляя несколько непечатных слов за особую зловредность действий. Хотя внешняя дешевизна не умаляла страдания людей, которым сейчас под горячую руку ломали судьбы и жизни… Здесь меня уже больше ничто не удерживало. Поскольку наша прежняя — точнее, Иннина — однокомнатная квартира располагалась в старом сталинском доме на центральной улице, то я без труда обменял ее на двухкомнатную. В совершенно новом и считавшемся полудиким районе. Отсюда даже на машине требовалось минут двадцать, чтобы выбраться в старую часть города.
Зато нынешнее жилище стояло на берегу реки, отделенное от ее излучины несколькими сотнями метров. С моего девятого — я специально выбрал последний, чтоб было побольше свету и поменьше шумных соседей — этажа раскидывался чудесный вид на уходящий в бесконечность лесной массив нежилого противоположного берега. С весны до поздней осени под моим балконом шла навигация — как автомобили по шоссе, по реке ползли корабли. Проносившаяся по утрам «Заря» мощным ревом своих моторов, проникавшим даже сквозь тройное остекление, напоминала о начале нового дня. С началом лета в прибрежных кустах до одурения заливались соловьи. И в темные тихие ночи из перелесков, смутно чернеющих за туманными заречными лугами, долетал гулкий вскрик кукушки. До сентября из затонов и заросших ивами комариных плавней весело неслось лягушачье кваканье. Я жил в единении с природой и был бы совершенно счастлив, если бы умел теперь быть таковым. Но быть счастливым, похоже, я разучился в принципе в то лето восемьдесят четвертого года, когда по своей великой и возвышенной глупости лишился пальцев.
Однако главная цель переезда была достигнута: я начисто порвал с прошлым и освободился от старых связей. В новом доме выходило по восемь квартир на площадку; никто никого не знал и никто мною не интересовался. Я избавился от самой памяти об Инне и о своей несостоявшейся семейной жизни: оставшиеся вещи при переезде отнес на помойку, а все фотографии и немногочисленные письма просто сжег. Правда, Инна не сразу порвала виртуальную связь. Решив дела, она звонила потом еще несколько раз. Просто так, даже к праздникам, чего с нею раньше никогда не случалось. Потом звонить перестала. Еще через некоторое время я узнал от других людей, что моя бывшая жена вышла замуж. Причем не за какого-нибудь русского еврея или натурализовавшегося макаронника итальяшку — нет, она оторвала себе настоящего американца англосаксонских корней. Кажется, профессора из того же университета, в котором обосновалась сама. И у них один за другим родилось двое сыновей — Инна, во время совместной жизни со мной активно не желавшая потомства, стала там примерной матерью и хранительницей семьи.
Не так давно она прислала мне письмо по Е-мэйлу, вложив в него большую — на два мегабайта — фотографию. Она сама, слегка загорелая и по-прежнему беловолосая, ничуть не постаревшая за эти годы, а лишь раздавшаяся вширь, рыжий муж с длинным лицом — типичный америкос из дешевых боевиков про хорошего негра-полицейского и его глупого белого напарника — и двое мерзких, белобрысых и веснушчатых американских детей.
Надо же… — ни с того ни с сего подумал я. — Дети моей бывшей жены родились стопроцентными американцами. И могут через какое-то количество лет претендовать на пост президента этой великой и бардачной страны…
Я посмотрел фотографию и уничтожил ее, не скидывая на винчестер. Мне давно была безразлична эта женщина, которую я, кажется, когда-то любил. И уже конечно незачем мне были ни ее классический англосакс муж, ни тщательно откормленные дети…
Так я и остался один.
Поначалу, особенно в первый год, мне часто бывало тоскливо. Особенно по ночам. Но тогда на ВЦ меня спасали ночные смены. Уснуть при свете удавалось не всегда, несмотря на изнуряющую усталость — я принимал снотворное и валился в кровать.
Потом я привык к своему одиночеству.
Содержать квартиру в порядке не представляло труда: еще и в прежние времена, в недолгие четыре года нашей семейной жизни Инна постоянно уезжала то в экспедиции, то в командировки, надолго оставляя меня одного, и я приучился сам следить за домом. Потом это вошло в привычку, подобную инстинкту.
Стиральная и посудомоечная машины избавили меня от лишних хлопот. В последние годы, упрочив материальное положение, я вообще нанял домработницу. Тихую скромную девушку, которая приходила дважды в неделю и мыла квартиру, протирала мебель, вылизывала кафель в ванной и на кухне, и гладила постельное белье. Моя квартира сияла непривычной для России, нежилой чистотой, напоминая скорее шестизвездочный отель, нежели дом холостяка. Привычка в педантизму, которая, вероятно, была во мне с рождения и развилась по-настоящему, когда я оказался на положении выживающего, дошла теперь до абсолютного совершенства. В моем доме всегда царил идеальный, мертвый порядок. Я мог запросто ходить в абсолютной темноте, не зажигая света — ни на что не натыкаясь и в находя все, что требуется. Не потому, что видел, как тигр; просто образцовый порядок, никогда и ни кем не нарушался, и я знал на память однажды определенное место любой вещи. Привыкнув жить так, я уже представить себе не мог, чтобы в доме появился кто-нибудь, нарушающий этот уклад. Не обязательно женщина — пусть хоть собака или кошка. Даже домработница, если она задерживалась слишком долго, чересчур тщательно отмывая стены в туалете или перетирая по одной книги из шкафа, начинала меня раздражать, и несмотря на очевидную необходимость, я начинал мечтать, чтоб она поскорее ушла.