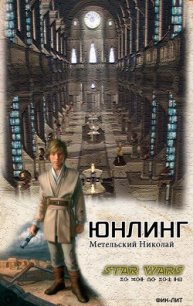Псаломщик - Шипилов Николай Александрович (читать полную версию книги .txt) 📗
Отец знал: кончается барда для коровы. Ее осталось чуть на донышке треугольной шахтной вагонетки. Кончается уголь – его надо выписать, привезти на лошади, вывалить у ларя и лопатами – в ларь; Сане надо сапоги или калоши на валенки, а пальтишко еще хорошее, продюжит весну – сколько ее, весны-то той; поросенка на откорм купить – тоже надо, не последнюю зиму живем…
– Надо. Много чего надо. Ламповый приемник хотел взять, а какой теперь приемник после этого…
Лицо его омрачилось, и тут открылась дверь из предбанника. Голый Сыр всунул в помывочную лицо и крикнул:
– Никола, сюда! Быстро!..
– Разогнался… – буркнул отец, но встал и опрокинул полтазика воды на Петю и полтазика на себя.
– Пошли, Голован, не то чайна 16 закроется… Видишь, не могут без Коли Шацких…
– Быстро! – еще раз повторил Сыр, с головой, повязанной вафельным полотенцем. – Вора отымали! Ага!
Кружок мужиков в раздевалке расступился, разомкнулся, но гомону прибавилось при виде отца. Он был в поселке кем-то вроде мирового судьи. Отец и сын шли, прикрываясь тазиками, к центру круга, где на мокрой деревянной решетке для ног сидел мальчишка-фэзэушник с красными ушами. Ему их надрал Сыр. Сидел паря, ни на кого не глядя, одной рукой придерживал на коленках Петину новую рубаху, а пальцами другой – ковырял подножную решетку.
– Стыд-головушка! – говорила банщица. – А?! Вот, пока еще на решетке сидишь, а не за решеткой, проси прощенья!.. Скажи: простите меня, люди, мол, добрые! Больше никогда в жизни чужой блохи не трону! А?
– Простите меня, люди… – подняв со скукою брови, начал повторять было мальчишка, – …добрые… блохи… не трону…
Сыр замахнулся и сквозь стиснутые зубы выдавил решительно:
– Щ-щ-щ-эс… кэ-э-эк… сур-р-раз-зенок ты… с-с-с…
– Ну, к чему такое жеманство! – отвел его руку отец. – Я сам беспризорничал. А ну, парень, встань!
Тот встал, голова опущена. Публика притихла.
– Моя рубаха! – с обидой выговорил Петя. – Новая! Мама только сёдни…
– Уддуй! – сквозь стиснутые зубы произнес, нахмурясь, отец. – Рубух юму муло!
– Муло! – Петя крепко тер нос, перемыкая боль на боль, чтобы не зареветь. – Муло!
– Я вот тебе дам «муло»! Хлюндик! – нахмурился отец. – Одевайся, пошли: чайна через полчаса закрывается.
– Дак, Николай! – воскликнул Сыр. – Дак, это как жа? Рубаха-то чо? А твой-то – чо: без рубахи опосля бани, да?
– Глупости, – сказал отец. – Человек скоро полетит в космос, а ты со своей рубахой!
Сыр озадачился:
– Дак, это… Мне – чо? Не моя рубаха-то, дак, чо мне…
– Пошли в чайну, ребяты…
И все, кроме Пети, оделись в новые белые рубахи, которые только вчера завезли в орсовский магазин. А он надел отцовскую, до пят.
– Рубаха-то до пят, а девки торопят! – смеялась банщица. – Да, Петька? Вырастешь – на завод пойдешь?
– В ниситут!
Когда Петя дорос до ее величины, ему хватило веку увидеть, как заводы-мамонты встали и вымерли. Отчего-то стало жаль их домашний уют.
… Сказать это прозой? Но проза низка, когда о любимом – с пристрастьем. Сибирских сосновых морозов тоска, казалось, бодрила ненастьем. Надёжа завод, ты давал нам тепло, значительным был и всевластным, а соли пакетик да хлеба кило не делали детство ужасным.
Я лично пятерки из школы носил, корову доил и покосы косил. Мне силы надолго хватило. Иного бы трижды скрутило…
… А летом наши дома ставили на дезинфекцию, то есть морили в них клопов. И тогда народ-муравей весело и привычно ставил на улице печи и кочевал на жительство в стайки.
Родительница вора Шуры, чумазая грохотистка Лена Чалых жила в первом этаже того же дома, где угнездились и мои родители со чада. Так, героически, появился Шура, одетый в бостоновый костюм. Это был костюм, который хотелось потрогать. Он был сталистого колера, а сорочка под пиджаком желтая, как весенний цвет мать-и-мачехи. Сибирь не баловала детских глаз разноцветьем садов и яркостью одежд. Долго еще цветенье картофельных полей казалось мне райским цветеньем. И до седых волос доживший, я считаю, что ее цветение красиво. Но желтая рубашка Шуры, его красная, обветренная на лесоповалах ряшка и зелень заречного луга доселе напоминает мне любой светофор на перекрестке…
И я сказал Алеше, пряча аптечку в сумку:
– … Нет! Я, Алеша, не матерился, а хорошие книги читал… Над вымыслом слезами обливался…
– А все равно – нищий!
– Хэх! Да ты знаешь, сколько у меня денег! Народ-то мрет и мрет – вороне радость… Я сейчас богат, как гробовщик… Пошли! Тут нас дядя Юра подхватит и скажет, куда нам плыть…
– Куда же вы деньги тратите?
– Детям голодающей Африки отсылаю! – ускорил я шаг, будто хотел оставить этот веселый разговор за спиной. – Будто ты не знаешь, что Аня строит храм! Я эти деньги отдаю ей на раствор, на кирпичи, на всякую всячину…
– Та не летите ж, кажу, як голый в баню, дядько Петро!
– Опаздываем, Алешка, – прибавь, кажу, ходу!
8
«… А баня та стояла в лощине у проезжей дамбы. Дамбу с будкой водозабора подпирал пруд. Вода в чаше пруда была мягкой и вечнозеленой. После того как с крыши будки нырнул и не вынырнул заика по кличке Гын-Гын, никто, кроме Гоши Чимбы, не решался повторить номер. Скорее из ужаса перед наглостью недавней гибели, чем от страха высоты. На берегу пруда отдельно от нас, черни, лежал этот Гоша Чимба – самый бесстрашный подросток поселка на то время.
Чимба – это его самоварная кличка. Он сам назвал себя так, выкладывая эту кличку галечником на тощей груди. Кожа под камешками не загорала, и все грамотное население могло прочесть, что этот мальчик имеет кличку Чимба. Кто знает, что такое Чимба, пусть не поленится написать мне по адресу: город Китаевск, Главпочтамт, до востребования. Чимба жил в домах, с которыми наши не дрались, обходя их, как прошлая война обходила Швейцарию. В тех домах жили урки. Большинство их детей и внуков тоже стали урками. Они, эти дети, вроде бы, и не были детьми. Они не играли в казаки-разбойники или в войну. Они не играли, а осваивали боевые ремесла, как самое жизнь. Их родители были отделены от государства и власти. Они верили лишь себе, удаче и крепкому кулаку. А кто не знает, что зэковские драки – самые подлые и отчаянные? Тюрьма слезам не верит. Они ни на кого не надеялись. А Господа Бога путали с дедом Морозом.
Так вот, Чимба жил среди них, а на нас плевать хотел, как на тангенса с котангенсом и на Бойля с Мариоттом. Своей второй жизнью он был обязан вору Шуре, и на утро следующего дня чисто одетый, коротко остриженный Чимба зашел в нашу дворовую гавань. Воры сбивались в кодло.
Чимба сел за столик во дворе. За этим столиком по вечерам мужики играли в «секу», а с утречка уходили на работу. Чимба достал из штанин финку с наборной ручкой, с усиками и кровотоками. Он взял ее в левую руку и стал вонзать ее жало в столешницу между растопыренными пальцами правой. Он был левшой.
Наша команда с утра на посту по охране. Слепая Света терпеливо учит ноты по азбуке Брайля.
– Чо это он делает-то? – спросил Юра, глядя на забавы хулигана.
– Иди, спроси сам, керя…
– Ara-а… А он ножичком – чики-брыки! Ты командир – ты и иди!
– Так зачем командиру идти? Ты и иди! Ты – подчиненный!
– Не… Я боюсь. Потому я и не командир…
Вот и задача с двумя известными. Один мистер Икс, второй – товарищ Игрек. С дрожью в коленках я спускался по чердачной лестнице на лужайку.
– И тут выходит Дон-Жуан, сын Дон-Кихота с Дульцинеей. Ты кто? – спросил Чимба, не поднимая на меня взгляда. – Ты поцен или карлик?
– Чо? Поцен, конечно! – отвечал я, не в силах отлепить взора от порханий, как крыло стрекозы, стали.
– А почему у тебя усы? – Чимба пырял финкой между растопыренных пальцев.
– Чо? А-а… Ежовику ел.
– Пионер?
– Чо? Да… это… Пионер… – отвечал я, обмирая от страха. – Юный… это… пи… это… пи…
16
Они говорили не «чайная», как принято было позже, а «чайна», т. е. Китай.