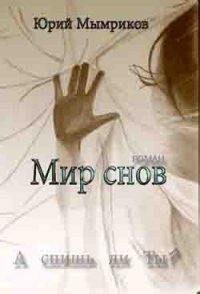Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные txt) 📗
– Становитесь у стога, за ним спрятаться проще.
Она как раз тут пойдет – из болота к реке. На взлете ее и караулить… Стреляли когда влет, нет?.. Стволы сверху ведите, и как ее тень, – он упорно не хотел произносить слово «утка», – под стволы подлетит – не накрывать стволами, нет! – как под них подлетит только, – бейте! – как раз с дробью встретится… А я правее пойду, чтоб лужок этот с двух сторон оседлать.
Кругом-то вода, – бывает, убьешь и не достанешь без собаки. А тут – полный порядок будет… Вон там сейчас небо сереть начнет, над горизонтом, – он показал рукой, голос у него был сиплый спросонок, – на этой полоске и ловите тени… Ну, ни пуха!
– К черту! – ответил я.
Он ушел. Шаги его долго еще посвистывали резиной по росной, тугой траве – как по снегу. И затихли. Я привалился плечом к стогу.
Ни одной звезды не было на небе – плотная чернь со всех сторон. Хотелось спать. Я закрыл глаза. Изморозь подбиралась сыро под рукава, за воротник, к плечам. Запахнулся получше. Сено похрустывало сухо и громко, душно пахло. Может, еще прошлогодний стожок? Трудно его отсюда вывезти… Вспомнилась протока с водорослями под днищем лодки, расчесанными на пробор… Голова покруживалась – покруживалась. От тишины? Бессонной ночи? Или совсем уж невпроворот эти концлагерные были-небыли? – девочка, дважды умершая, Ронкин, воскресший из-за того только, что – еврей, и Корсаков: дал силу своими рисунками людям и их же – предал?.. Бредовый мир. Темень-то какая! – безнадежная.
Не знаю, сколько я так простоял.
Но вдруг вдалеке крикнула хрипло одна кряква, за нею тут же – вторая, и куличок просвистел. Я открыл глаза. Вроде так же темно было, но воздух порыхлел будто.
Теперь уже птицы перекликались беспрестанно. И какая-то прошуршала крыльями быстро, я услышал ее только за спиной, за стожком. Утка?.. Не чувствуя тяжести ружья, поднял его, повернулся, – ну точно, небо, еще черное, над самой-то землею, там, вдали, будто разваливалось хлопьями. И так – минуту, две, а потом, наоборот, эти хлопья слипаться стали во что-то – нет! – не светлое, а зыбкое еще, но можно было теперь угадать, где встанет солнце. А потом забродили над горизонтом смутные отблески. Небо бывает таким вот, когда ночью выбираешься из лесу к далекому еще поселку или городу и вдруг увидишь сперва неясные дальние всполохи, которые лишь постепенно набирают силу и тревогу – одновременно: отсветы уличных огней. Они кажутся неуместными и будто беду предвещают, как зарево над дальним пожаром, который не потушить.
И тут опять справа и слева прозвенели крыльями уТКИ| – теперь уж точно они! – жадно, стремительно.
И пошло, и пошло!..
Они летели, а я их не мог увидеть еще, и кричали со всех сторон. Я заметался вокруг стожка. И вдруг на самом склоне неба увидел маленькую тень, она быстро шла прямо на меня, не поднимаясь, чуть не над самой землей, лишь увеличиваясь. Вскинул ружье, концы стволов тоже показались мне тенью. И тут справа будто рядом совсем, по другую сторону стожка, грохнуло, – Ронкин! И я тоже нажал курок. Своего выстрела я както не услышал, а уж только мгновеньем после него долетел до меня тоненький свист какой-то; метрах в двух от стожка что-то гулко, как мяч, ударило об землю.
Я шагнул, наклонился, роса на острых будыльях травы была холодной, но рука почти тут же споткнулась о гладкие, сухие перья. Утка лежала, раскинув недвижные крылья.
Прикосновенье это было неприятным, и я отшатнулся, не стал поднимать ее.
Но некогда было думать о своих чувствах. Да и тени на небе, которые теперь скользили беспрестанно, были просто тенями – не больше. Они над самой головой только оживали, жадно хлопая крыльями, но это уж те, которые миновали меня, ушли к другому краю лужка, к Ронкину. Там грохали выстрелы. Лишь изредка они отдавались высоко в небе эхом, протяжным, раскатистым, и вокруг меня что-то мелко стучало о землю, как капли дождя, который только-только расходится.
Я не сразу сообразил: дробинки сыпятся.
И вдруг мне показалось это смешным по какой-то нелепости, неуместности – «дождичек»… Я вышел из-за стожка и протянул руки вперед, ладонями кверху: может, поймаю капли эти? Но и без того они уже остудили меня, смыв тревогу, с какою еще минуту назад я метался вкруг стожка.
Я огляделся. Три сбитых утки лежали на лужке – как пятна выцветшей травы. Я поднял их и бросил за стог, чтоб не видеть, а сам сел в сено, лицом к солнцу, оранжевый край которого уже приподнялся над дальней зубчатой полосой тайги.
А поближе вытарчивали из болота три кривых голых березки, вот из-за них-то и появлялись по большей части утки, но теперь уж они, наверно, видели меня – черное, непривычное им пятно в разворошенной груде сена, и все, только лишь показавшись из-за березок, отруливали в сторону и набирали высоту. Было приятно видеть, как они идут ввысь.
Облака розовели. Сперва – лишь нижние кромки их, а потом все, целиком, и солнце будто придавало им силы, они приходили в движение, поднимаясь к зениту.
Почему-то поламывало плечи, шею открутил будто, и так покойно было сидеть, не двигаясь, что когда подошел Ронкин – я еще издали угадал его шаги, – то и к нему не повернулся, не взглянул даже, какую добычу несет, – не все ли равно?..
А он сказал – не удивленно, устало:
– Ого, и у вас три штуки, – и остановился сзади, молчал.
Теперь уж и по всему болоту затихли выстрелы, хотя иногда утки еще поднимались из него, но сразу, круто шли вверх и там, в высоте, становились тоже розовыми и медлительными. Там им можно было не торопиться.
Я не оглядывался, но знал, Ронкин тоже смотрит на небо. Обнажая его синеву, облака расступались. День явно обещал быть ровным, тихим. Комар сел на руку, лениво поторкал хоботком, но не стал жалить, – наверное, не проснулся еще. Я чуть шевельнул кистью руки, и он завис в воздухе, зажужжал ворчливо. Звук этот лишь подчеркнул оглушающую тишину, которой все вокруг наполнилось всклень. Не ту, предрассветную, почти мертвую, когда я часом раньше стоял у стожка и не мог различить в черном небе линию горизонта, – тишину иную, уже солнечную, которая вот-вот сломается граем птичьих дневных забот, стрекотом дальних моторов, шорохом листьев, на которых обсыхает роса…
Может, всего лишь одно-два мгновенья живет такая тишина, и то – далеко не каждое утро.
И тут я отчетливо, до деталей вспомнил лагерный пейзаж Корсакова, обрез бетонной стены, буйно-зеленый мир за нею, и понял, откуда, чем рождена эта безмерность отчаянья в нем: на рисунке-то как раз и была такая же особенная, утренняя тишина, но уже сломанная звуками сторонними и тревожными. Так вздрагивали листья на деревьях, в такой аритмии света и тени, что я ясно услышал эти мерцающие наперебой звуки, – что они означали?.. Ну, конечно! – утренний стук деревянных башмаков хефтлингов, выбегающих нестройно на поверку, на лагерный плац. Те мгновенья, когда красота земли за колючей проволокой не внушает, а отнимает надежду, даже самую малую, полубезумную, когда, наверное, искренне жаждешь, чтоб и деревья, и травы, и небо, и все, что есть вокруг, стало уродливо-безобразным – иначе не защитить себя, не отыскать равновесия в этом нереальном мире.
Но неужели и звуки жили в корсаковском карандашном рисунке?.. В те минуты, для меня – жили. И я думал: «Как хорошо, что Ронкин молчит. Просто стоит и молчит…»
Дней пять я никак не мог поймать Токарева.
К Коробову, Насте Амелиной мне идти больше не хотелось, – ну, не шли ноги.
Но и уехать, не поговорив с начальником стройки, тоже неудобно было: какие-то авансы я ему выдал все же, и, по счету профессиональному, надо было теперь за них расплачиваться.
Вот ведь сколько раз зарекался ничего не говорить в командировках о своих замыслах, даже – в наклонении сослагательном: «Хорошо бы написать…» Иначе наверняка сработают у твоего собеседника штампы сюжетных ходов, мыслей, слов, усвоенных им и тобой со вчерашней газетной жвачкой, и ты сам не заметишь, как они убаюкают тебя, а собеседник, даже самый упрямый, почти неизбежно окажется в положении рыбы, которую ты заманиваешь на крючок собственных желаний и заманишь! – если не подлистником, так комочком теста, смоченным в анисовых каплях, или стрекозой – лучшей приманкой на голавля, или обыкновенным дождевым червем, или распаренным кукурузным зерном, личинкой нюрника, а то и живцом, так похожим на вольную, никем пока не пойманную добычу. Так или иначе клюнет рыбка, наверняка клюнет! И чаще даже не из тщеславия или голода, не из корысти: из доброты к тебе же самому, – почему же не сказать то, что человек хочет услышать?.. Из доброты или из-за недостатка терпения: ведь какой только приманкой ты ее не завлекал и чуть ли не по носу крючком тюкал – как не взять?!