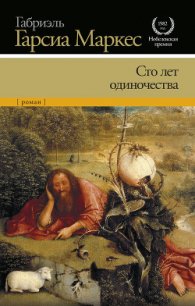Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке - Маркес Габриэль Гарсиа
Улисс, не замечавший поначалу бабкиного бреда, испугался, увидев, что она сидит на постели. Эрендира успокоила его.
— Да не бойся! — сказала она. — Бабушка всегда говорит об этом сидя, но чтобы проснуться — никогда.
Улисс положил ей голову на плечо.
— Той ночью, когда я пела вместе с матросами, мне почудилось, что разверзлась земля, — продолжала спящая бабка. — Да и все, наверно, так решили, потому что разбежались с криками, давясь от смеха, и остался лишь он один под навесом душистых трав. Как сейчас помню — я пела песню, которую пели тогда повсюду. Ее пели даже попугаи во всех патио.
Дурным, неверным голосом, каким поют лишь во сне, бабка завела песнь своей неизбывной горечи:
Только теперь Улисс прислушался к горестным словам старухи.
— Он явился, — говорила она, — с красавцем какаду на плече и с мушкетом, чтобы убивать людоедов. И я услышала его роковое дыханье, когда он встал предо мной и сказал: «Я объездил весь свет тысячу раз, я видел женщин всех стран и могу поклясться, что ты самая своенравная, самая понятливая и прекрасная женщина на земле».
Она снова легла и зарыдала, уткнувшись в подушку. Улисс с Эрендирой замерли в полутьме, чуть покачиваясь от могучего дыханья спящей старухи. Внезапно Эрендира спросила твердо, без малейшей запинки:
— Ты бы решился убить ее?
Улисс, застигнутый врасплох, не знал, что сказать.
— Не знаю, — ответил он. А ты бы решилась?
— Я не могу, — сказала Эрендира. — Она моя бабушка. Тогда Улисс обвел глазами огромное спящее тело, как бы прикидывая, сколько в нем жизни, и со всей решимостью произнес:
— Ради тебя я готов на все.
Улисс купил целый фунт крысиного яда, смешал со сливками и малиновым вареньем, начинил этим смертоносным кремом торт, из которого вытащил прежнюю начинку, сверху обмазал его кремом погуще, потом загладил ложечкой, чтобы не осталось следов злодейского замысла, и увенчал свою вероломную затею семьюдесятью двумя розовыми свечками.
При виду Улисса, вошедшего с праздничным тортом в шатер, бабка сорвалась с трона и угрожающе размахнулась епископским жезлом.
— Наглец! — заорала она. — Как ты смеешь являться в этот дом!
— Молю вас простить меня, — сказал он. — Сегодня день вашего рождения.
Улисс прикрывался своей ангельской улыбкой.
Обезоруженная меткой ложью, старуха тотчас приказала накрыть стол со всей щедростью, как для свадебного пира, и усадила Улисса по правую руку. Эрендира им прислуживала. Одним сокрушительным выдохом бабка погасила все семьдесят две свечки и, разрезав торт на равные кусища, протянула первый Улиссу.
— Человек, который добился прощения, обретает надежду попасть в рай, — сказала она. — Вот тебе на счастье первый кусок.
— Я не очень люблю сладкое, — проговорил Улисс. — Угощайтесь сами.
Когда бабка протянула второй кусок Эрендире, та вынесла его на кухню и бросила в помойное ведро.
Бабка управилась с тортом в два счета. Заталкивая в рот целые куски, она заглатывала их не прожевывая, со стоном блаженства и сквозь дымку наслаждения разнеженно глядела на Улисса. Когда ее тарелка опустела, она взялась за кусок, от которого отказался Улисс. Облизываясь, смакуя крем, старуха собрала со стола все крошки и кинула их в рот.
Она съела столько мышьяка, сколько хватило бы, чтобы истребить целое поколение крыс. Но она как ни в чем не бывало терзала рояль до полуночи, а потом улеглась и, совершенно счастливая, заснула сладким сном. Лишь в ее дыхании появились какие-то каменистые перекаты.
На другой кровати затаились Эрендира с Улиссом, выжидая бабкиного предсмертного хрипа.
— Я сошла с ума! Бой мой, я сошла с ума! — гремела бабка. — Я закрыла от него спальню на два засова, а к дверям придвинула ночную тумбочку и стол, на который поставила все стулья. Но едва он тихонько постучал перстнем — все мои преграды рухнули: стулья сами собой встали на пол, стол и ночная гумбочка сами собой подались назад, а засовы сами собой отодвинулись.
Эрендира и Улисс смотрели на нее с нарастающим изумлением, потому что бред становился все неистовее, голос — все трепетнее.
— Я думала, что вот-вот умру, я была вся в поту о г страха, но про себя молилась: пусть дверь откроется, не открываясь, пусть он войдет, не входя, пусть будет со мной всегда, но больше не возвращается, потому что я убью его.
Несколько часов кряду бабка потрошила свою душу, выкладывая самые интимные подробности своей драмы, переживая ее заново во сне. Перед самым рассветом она повернулась на другой бок с шумом затухающего землетрясения, и голос ее сломался в безудержных рыданиях.
— Я его предупредила, а он смеялся, — надсаживала горло бабка. — Я снова пригрозила, а он снова засмеялся и потом открыл свои гибельные глаза и сказал: «О, моя королева! Моя королева!» Но голос его вырвался из глотки, в которую вонзился нож.
Холодея от страха, Улисс схватил Эрендиру за руку.
— Убийца! — крикнул он.
Эрендира даже не глянула на него, потому что в эти минуты стало светать и часы отбили пять ударов.
— Иди! — сказал Эрендира. — Она сейчас проснется.
— В ней жизни больше, чем у слона! — воскликнул Улисс. — Так не бывает!
Эрендира смерила его уничтожающим взглядом.
— Дело просто в том, — проговорила она. — Что ты не умеешь даже убить.
Улисс был настолько потрясен жестокостью упрека, что тут же удрал из шатра. Эрендира смотрела на спящую бабку с глухой ненавистью, с бессильной злобой, а тем временем в разливе утреннего света просыпались птицы. Бабка наконец открыла глаза и взглянула на внучку с блаженной улыбкой.
— Храни тебя Господь, детка.
Единственной заметной переменой было то, что сразу нарушились привычные правила ее жизни. Была среда, но бабка возжелала надеть воскресный наряд, приказала Эрендире не принимать до одиннадцати ни одного клиента и велела покрыть себе ногти гранатовым лаком, а прическу сделать на манер папской тиары.
— Смерть, как хочу сфотографироваться! — воскликнула она.
Эрендира принялась расчесывать ей волосы, но не успела провести гребнем по голове, как в зубьях застрял целый пук волос. В страхе она показала его бабушке. Cтapyxa долго изучала этот пук, потом дернула большую прядь, и та вся целиком осталась у нее в пальцах. Бабка бросила ее на пол, ухватила еще больший клок волос и легко выдернула его из головы. Тогда она начала обеими руками дергать волосы и, заходясь смехом, подбрасывать их вверх. И не успокоилась, пока голова ее не стала похожа на очищенный кокосовый орех.
Об Улиссе не было ни слуху ни духу целых две недели, и лишь на пятнадцатый день снаружи призывно ухнула сова. Бабка, терзавшая рояль, так глубоко погрузилась в свою тоску, что не замечала ничего вокруг. На голове ее красовался парик из сверкающих перьев.
Эрендира прислушалась к зову и лишь тогда заметила шнур, который выползал из-под крышки рояля, уходил к густым зарослям кустарника и терялся во тьме Эрендира подбежала к Улиссу, спряталась с ним в кустах, и оба с замиранием сердца стали смотреть, как по утру пополз синий огонек, просквозил темноту и проник в шатер.
— Закрой уши! — крикнул Улисс.
Они закрыли, но зря, потому что не было никакого грохота. Шатер осветился изнутри, бесшумно взорвался и исчез в густых клубах дыма, который повалил от подмоченного пороха. Когда Эрендира осмелилась войти внутрь с надеждой, что бабка погибла, она увидела, что жизни в ней хоть отбавляй: в обгорелом парике, в изорванной клочьями рубахе бабка бегала по шатру, забивая огонь одеялом.
Улисс вовремя улизнул, воспользовавшись суматохой индейцев, которые совершенно потерялись из-за противоречивых распоряжений бабки. Когда они справились наконец с огнем и рассеяли дым, перед ними предстала картина истинного бедствия.
— Тут чьи-то козни, — сказала бабка. — Сами по себе рояли не взрываются.