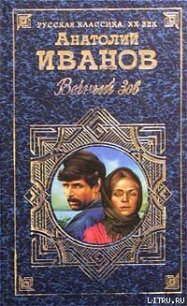Вечный зов. Том II - Иванов Анатолий Степанович (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
— Ой! Откуда ты их взял?! — воскликнула Ганка.
Инютин поглядел на неё, усмехнулся.
— Чего откуда? Поймал…
— Где? Как?
— В Громотушкиных кустах. Петлёй, — пискнула Майка. — Варварство это! Видишь, нога у зайчихи перевязана. Ногой в петлю попала.
— Чего варварство? — бросил Инютин. — Испокон веков есть такой вид охоты…
— Больно ж ей! — сказала Лидка.
— Я вылечу. Она уж приступает на неё. Жрать, заразы, только не хотят. Морковку вон не жрут. Капусты им, видать, надо. А свежей нету. Солёную, может, будут, думаю. А? — повернулся он к Ганке.
— Не знаю… А почему этот заяц серый?
— То не заяц. Это кроль. Я его временно у деда Харитона попросил. На расплод.
— На какой расплод? — хлопнула Ганка ресницами.
Инютин по своему обыкновению усмехнулся — темнота, мол, не соображаешь. Затем согнал улыбку, почесал горбатый нос.
— Это зайчиха, а это кроль, говорю. Я их хочу скрестить.
Ганка ещё похлопала ресницами, отчего-то сильно покраснела.
— Дурак ты! — сказала она обиженно и выскочила из дома.
Это было ещё до того случая с Димкой, в самом начале зимы. При каждой встрече потом с Николаем она невольно вспоминала его зайцев, его слова: «Я их хочу скрестить» — и, наклонив голову, торопливо пробегала мимо.
А Инютин, как назло, всё чаще попадался ей на глаза, то в школе, то по дороге домой, то возле дома. Сперва девушка думала, что это так, случайно. Но однажды она, подняв на него недовольный взгляд, обомлела: на его лице она увидела не обычную его снисходительную усмешку, а смущённую, даже растерянную улыбку, в тёмных, глубоко ввалившихся глазах то вспыхивал, то гас какой-то непонятный огонёк, пугливый и робкий.
— Ты… чего? — вымолвила она, ещё ни о чём не догадываясь, но уже чувствуя в душе смятение.
— Ничего…
Она повернулась и быстро пошла вдоль заснеженной улицы, слыша, что Николай шагает следом. Под его валенками, подшитыми автомобильными покрышками, громко хрустел снег и отдавался сильной болью в её ушах.
— Чего ты… за мной идёшь? — обернулась она. И не хотела оборачиваться, хотела, наоборот, как можно скорее убежать от него, а вот взяла и обернулась. И не только обернулась, но даже остановилась, что совсем было для неё самой непонятно. Стояла и мучительно ждала, пока он подойдёт.
— Я не за тобой. Я домой, — сказал он, останавливаясь.
— Ну и ступай вперёд.
— Чего мне вперёд…
Они, оба растерянные, стояли на пустынной улице молча, не глядя друг на друга. Сколько стояли, никто из них сообразить не мог, но оба почувствовали, видимо, нелепость своего положения, враз повернулись и пошли, и до самого дома шагали молча, не проронив ни слова.
— До свидания, — сказала возле дома Ганка.
— До свидания, — проговорил в ответ Инютин.
Это случилось дня через три после той ночи, когда Димкина рука до рассвета пролежала на её плече.
Ганка жила теперь в каком-то полусне, порой не понимая, что с ней происходит. На Димку глядеть было стыдно, хотя, думала она ночами, краснея под одеялом, если бы снова случилось такое… такое… она снова позволила бы Димкиной руке… «А Колькиной? А Колькиной? — задавала она себе вопрос, совсем задыхаясь от жара. — Нет, ни за что! Ни за что!» И вздрагивала от стыда к самой себе за такие мысли, забивалась куда-то под подушки.
Но как-то так получалось само собой, что отношения с Димкой становились всё холоднее и отчужденнее, а с Николаем Инютиным наоборот. Собственно, с Димкой вообще никаких отношений не было, они просто жили в одном доме, но друг друга замечать перестали. А в доме Инютина Ганка стала бывать всё чаще. Себе она объясняла это тем, что ходит туда не к Инютину, а к Лидке и Майке. С Димкой она не разговаривала, но видела, что ему не нравятся её отношения с Инютиным, что с каждым днём он нервничает и злится всё больше. «Ну и позлись… позлись!» — думала она, испытывая при этом какое-то странное удовлетворение.
При всём при том Димку ей было жалко, жалость, непонятная и необъяснимая пока, как и всё остальное, захлёстывала иногда её до того, что на глазах проступали слёзы и ей хотелось подбежать к Димке, упасть ему на грудь и выплакаться до конца, и это — она чувствовала — принесло бы ей и ему полное облегчение. Но и Николай Инютин становился всё более любопытен и интересен для неё. Может, потому, что он был ей не до конца понятен, её удивляли странности в его характере, которые она стала вдруг замечать. Он собирался добровольцем на фронт, с энтузиазмом сообщал встречному и поперечному, что военком Григорьев «твёрдо-натвердо» пообещал ему «отправку с первой же группой двадцать шестого года рождения, поскольку ты, Инютин Николай, серьёзный парень и отец у тебя на фронте», но она не верила этому. Во-первых, Колька был врун несусветный, это все знали. Во-вторых, в школе он вечно хулиганил, изводил учителей, особенно много пакостей делал учительнице немецкого языка. В прошлом году на её уроке выпустил из ящика крысу, учительница, пожилая женщина из эвакуированных, упала в обморок и неделю потом проболела. Инютина едва не исключили из школы, его мать чуть не на коленях упрашивала, говорят, оставить его в школе. Николай после этого случая притих, но ненадолго. Нынче разгорелся новый скандал из-за того, что он подменил в стопке контрольных по алгебре, которые Берта Яковлевна принесла домой для проверки, несколько работ самых отстающих учеников. Лидка и Майка рассказывали, что мать несказанно удивилась, проверив работы этих учеников, на другой же день вызвала их по одному к доске, заставила решать те же задачи, что были на контрольной работе. Никто из них задач не решил. Была проведена новая контрольная. Берта Яковлевна просмотрела работы неуспевающих учеников на перемене. Написаны они были на двойки, но оценок она не поставила, отнесла работы домой, а на другой день вечером застала Инютина как раз в тот момент, когда он подменял листки с контрольными…
«Разве могут такого несерьёзного человека взять на фронт добровольцем? — думала Ганка. — Врёт он, всё врёт…»
Но когда однажды Лидка, такая же грудастая и непоседливая, как её сестра, высказалась об Инютине примерно в том же духе, Ганка вдруг возмутилась:
— А почему не могут? Чем он хуже… хуже других?
— Да в нём глупость и тупость… через край переливаются.
— Тупость? Глупость?! — От обиды за Николая, от подступившего гнева слова у неё все исчезли, тех, которые хотелось обрушить на Лидку, не было. — Что ты понимаешь тогда? Что понимаешь?
— Защитница! И с чего бы это? — Лидка насмешливо сверкнула тёмными глазами, брезгливо сложила губы.
— А с того, что несправедлива ты… Только поэтому.
— Да? — Лидка снисходительно оглядела её. — Нет, я говорю истину. Она тебе неприятна, но это уж другое дело… Это ж он мог только додуматься — скрестить зайчиху с кролем. А что вышло?
Да, из этой его затеи ничего не вышло. Зайчиха не стала есть ни солёную, ни даже свежую капусту, которую Инютин всё-таки добыл среди зимы, что было за гранью почти невозможного, и подохла. Но то обстоятельство, что Николай где-то полкочана свежей капусты достал, повергло Ганку в изумление.
— Коля! — воскликнула она, схватилась за его плечо. — Где ж это сумел ты…
— Да чего, подумаешь… — Он смутился. Девушка, опомнившись, сняла руку с его плеча. И тогда Николай покраснел ещё больше. — Правда, весь район пришлось обегать. Да это что мне.
Ганка вспомнила, что Инютина почти целую неделю не было видно в школе.
— Тебе же опять… попадёт, что уроки пропустил?
— Попадёт, — вздохнул он. — Да ничего, может, она, зараза, жрать зато станет… Это мне Тонька-повариха дала, из колхоза. А ей сам председатель Назаров повелел… «Поскольку, грит, слыхал, что добровольцем ты идти собираешься». Она и достала из погребушки.
Когда зайчиха подохла, Николай снял с неё шкуру, а тушку закопал, для чего разрыл снег и долго ковырял мёрзлую землю.
— А то собаки разроют и сожрут, если её просто под снег, — сказал он Ганке.