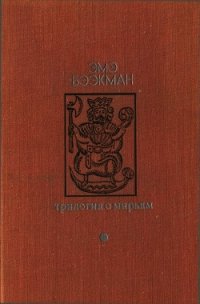Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка (Романы) - Бээкман Эмэ Артуровна (полная версия книги txt) 📗
— Я знаю, где мы можем побыть наедине, — выпалил Оскар.
Теперь он намерен был осуществить совершенно сумасбродную затею.
Внутренний распорядок УУМ'а строжайше запрещал служащим находиться в служебных помещениях в нерабочее время. Исключение составляли лишь коллективные празднования дней рожденья, которые обычно длились два часа и с которых Рээзус всегда уходил последним, предварительно лично проверив все помещения. Новый начальник Гарик Луклоп не изменил эту часть предписаний Рээзуса. Разумеется, совершенно недопустимо было приводить в УУМ посторонних. Правда, после того, как Луклоп проявил некоторый скептицизм в отношении абсолютной засекреченности УУМ'а, можно было, пожалуй, рассчитывать на более мягкое наказание за нарушение порядка.
Ирис не сопротивлялась. Она не имела ни малейшего представления, куда Оскар собирается вести ее. Она не знала, какого большого мужества требует принятое им решение.
Оскар держал Ирис за рукав, когда они входили в дом поблизости от УУМ'а. В свое время Рээзус доверил Ээбену запасной ключ. Счастье, что Оскар знал, где живет шофер.
Оскар пошарил рукой, ища кнопку звонка, однако ее не оказалось. Ему пришлось долго стучать, пока открыли двери и они с Ирис вошли в узкую прихожую. Хотя нетерпение и подгоняло Оскара, он все же успел оглядеть квартиру Ээбена. Его поразил беспорядок, в котором жил великий изобретатель. Пальто и куртки Ээбена висели в углу передней на палке от щетки. Маленькая дочь Ээбена сидела в кухне на двух, положенных одна на другую, автомобильных шинах и ела картошку прямо со сковородки.
Поскольку пребывание в помещении УУМ'а после окончания рабочего дня было строго запрещено, Рээзус не пошел навстречу Ээбену, когда тот разошелся с женой и остался с ребенком без квартиры. Лишь после долгих упрашиваний он разрешил отцу-одиночке поселиться в уумовском гараже. Каждое утро Ээбен со смехом рассказывал, как они спят в машине и нахваливал свое просторное жилище — оба сидения, и переднее, и заднее, сходили за комнаты. Дочери нравилась задняя комната, там она и располагалась вместе с резиновым Фаустом.
Разумеется, все сотрудники УУМ'а понимали, что эти бесконечные рассказы Ээбена адресовались в первую очередь Рээзусу. Тактичный Ээбен не хотел, чтобы покойного начальника УУМ'а мучила совесть из-за нарушенного закона. Но раз уж Ээбену доверили запасные ключи, естественно, что он с ребенком пользовался каминной и мылся в просторной ванной УУМ'а.
Теперь Ээбен жил в квартире, отвоеванной для него Рээзусом. Хотя комнаты Ээбена из-за царившего в них беспорядка производили неприятное впечатление, Оскар оглядывал жилье шофера с внезапно проснувшейся завистью. Может быть, потому, что он пришел сюда с пронизывающего ветра, в голове его мелькнула нелепая мысль: не плохо было бы остаться здесь с Ирис! Пустые консервные банки и груда немытой посуды нисколько не помешают, если рядом с тобой человек, чье присутствие создает светлый микромир, за пределами которого тебя ничто не интересует.
Ээбен шарил по карманам, ища ключи. Вероятно, он мешкал в надежде, что Оскар отрезвеет, откажется от своей сумасбродной затеи и уйдет, не взяв ключей. Но Оскар продолжал молча ждать, и Ээбен прекратил фокусничать. Глядя мимо Ирис и Оскара, он объявил:
— Я не могу дать ключей.
— На один час, — стыдясь Ирис, шепотом попросил Оскар.
— Хорошо, — сочувственно пробормотал Ээбен и вынул ключи из кармана брюк.
Открывая и снова запирая за собой многочисленные двери УУМ'а, они в конце концов добрались до кабинета Оскара. Ирис села в то самое кресло, в котором когда-то сидел Пярт Тийвель и жаловался на свои горести.
Плотные шторы, свисавшие с потолка до самого пола, не пропускали света. Это обстоятельство в какой-то степени приглушило тревогу Оскара. Наконец-то они были с Ирис наедине, вдвоем, в тиши и спокойствии.
— Какой в этом смысл?
— В чем?
— В том, что мы пришли сюда?
Оскар не знал, что ответить. Он сидел на своем обычном месте, облокотившись о стол, его взгляд скользил по ручкам ящиков. Где-то внизу был спрятан зеленый петух, приготовленный в подарок Ирис. Это рассмешило Оскара.
— Я тоже хочу смеяться, — бросила Ирис.
— У меня это от смущения, — извинился Оскар. — Я так ждал этого момента, а теперь не знаю, с чего начать, — признался он.
— Хорошее начало, — снисходительно сказала Ирис.
Немного помолчав, она насмешливо продолжала:
— Я обычно наслаждаюсь началом, чего не могу сказать о конце. В начале время кажется бесконечным. Каждая минута — заполненной событиями. Каждый взгляд, движение, шаг, взмах руки — все, на первый взгляд, незначительное, фиксируется до мельчайших подробностей. Множество мелких и преходящих вещей кажутся важными. В конце все идет наоборот. Время мчится подобно поезду сквозь туманную равнину. Подробности рассеиваются и в памяти остаются лишь какие-то тусклые полустанки с длинными томительными остановками. Слышатся бессвязные выкрики, гул, грохот, шум, царит суматоха, и воздух наполнен бесприютностью. Или предчувствием бесприютности.
Оскар сосредоточенно слушал. Он не знал, как истолковать слова Ирис. Было ли это откровенностью? Иронией над собой? Или параллелью тому, что она думала в действительности?
— Я не выношу, когда обо мне много знают. Предпочитаю начинать на пустом месте.
— Но ведь я ничего не знаю, — поспешил заверить ее Оскар.
Ирис рассмеялась.
— Чем быстрее меня узнают, тем раньше я начинаю чувствовать приближение финиша. Даже более того — меня начинает одолевать потребность действовать в бешеном темпе, чтобы как можно быстрее наступил конец. Перед финишем в душе рождается тоска по новому началу. Скорый поезд мчится лишь для того, чтобы достичь темного туннеля, из которого нет выхода. Пугает каждая промежуточная станция, где надо что-то доказывать и выяснять.
— Странно, — пробормотал Оскар и украдкой посмотрел на Ирис, ее глаза смеялись.
— Ничего странного. Если существуют люди, которые по поводу каждого мига восклицают: длись вечно! — то должны, по-видимому, существовать и противоположные им индивиды.
— Начнем с начала! — вскричал Оскар и на всякий случай засмеялся, чтобы не показаться по-глупому легковерным или серьезным. — Я хочу познать медленное течение времени и зафиксировать каждую фазу начала. Никогда раньше я не искал в этом наслаждения. Не умел. Я всегда жил скорее в противоположном ритме. Спешил в начале и бесконечно тянул в конце.
— Так и быть, — сказала Ирис, вставая с кресла. — Этот дом похож на лабиринт?
— Да, — смущенно кивнул Оскар. Он не понимал, что задумала Ирис.
— Поблуждаем немного по дому, а затем встретимся, словно в первый раз.
— В первый раз, — пробормотал Оскар и, открыв дверь, выпустил Ирис из кабинета.
Сам же с каким-то смутным ощущением остался стоять посреди комнаты.
Вся эта, столь хорошо продуманная методика работы УУМ'а, которую олицетворяли удобный стол и стул, гильотина для вскрывания конвертов, настольная лампа подходящей высоты, дававшая мягкий, но достаточно яркий свет, ряд кнопок звонков под краем стола и так далее — все это внезапно показалось Оскару унылым и серым рядом с мистической атмосферой, созданной Ирис.
Ощущение неопределенности и ожидания, возникшее от слов Ирис, состояло из мерцающих красок, которые трудно было описать, из подъемов и пропастей, от которых, словно от меняющегося давления, шумело в ушах, из далей и тупиков, которых ему не дано было увидеть.
Либо Ирис находилась вне традиционно циничного мира, либо была его квинтэссенцией. Оскар не мог так сразу определить это.
Возможно, Ирис придумывала свои чувства, точно так же, как Ээбен изобретал свои машины. Вообще, люди либо придумывают самих себя, либо, если это не представляет интереса, ломают головы над какими-то конкретными вещами или условными системами. А сами думают, что совершенствуют себя или окружающий их мир.
В старину говорили, что жизнь — это долина бедствий. Теперь, когда душевную и физическую боль можно снять, употребляя соответствующие химические средства, а кроме того, на земном шаре еще встречаются места, где не обязательно растрачивать свою душу и плоть на то, чтобы как-то существовать, — вполне можно было допустить, что жизнь все больше становится игрой.