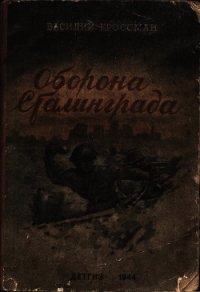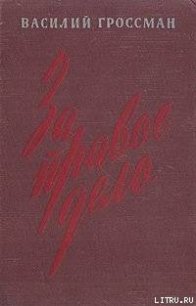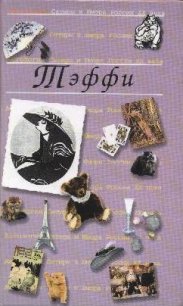На еврейские темы (Избранное в двух томах. Книга 1) - Гроссман Василий Семенович (книги без регистрации бесплатно полностью TXT) 📗
«Плеханов был тоже барин», — хотел сказать он и повесил портянку на спинку стула.
— Спрячьте-ка эту страшную штуку, — повелительно сказал Верхотурский.
«Вероятно, он поэтому и скатился к меньшевизму», — раздраженно решил Факторович и всунул портянку в сапог.
Но когда Москвин, подпевая авторитету, сказал:
— Да оно, пожалуй, и не мешало бы всполоснуть ножки, — Факторович не выдержал и крикнул:
— Поздравляю, ты, кажется, скоро начнешь употреблять одеколон и галстуки, — и задумчиво, ни к кому не обращаясь, проговорил: — Как страшна все-таки сила буржуазной заразы — вот товарищ Москвин, комиссар артдивизиона, сын пролетария, рабочий, коммунист, прожив четыре дня в буржуазной семейке…
— Ложись, ложись, — перебил Москвин, — помни, что доктор сказал, пока шрапнельку не вытащат — лежать колодой!
Но Факторович, презрительно поморщившись, махнул рукой. Он встал, и тень его выросла на стене, он тряхнул головой, и вихрастые волосы зашевелились.
— Вы слышите, — сказал Факторович и показал на темное окно, — это они!
Армия входила в город. Могуче рокотали колеса восьмидюймовых орудий, скрежещущие по камням подковы лошадей выбивали искры, и казалось, что ноги коней громадны, как колонны, обросшие густой страшной шерстью. С жестяным криком проехал броневик, его прожектор осветил мрачно шагавшую пехоту, блеск сотен штыков. Броневик проехал, и штыки погасли, исчезли в темноте, но солдаты все шли и шли — был слышен гул их шагов.
Комиссары стояли у окна, всматриваясь в темноту. То там, то здесь вспыхивали огоньки спичек, раздавались выкрики людей, поспешно отбрякивали подковы легконогих адъютантских лошадок, но эти звуки глохли в гудении тысяч шагающих сапог. Польская армия входила в город.
— Подумать только, — сказал Верхотурский, — что парень, с которым я одно время встречался в варшавском подполье, который когда-то ходил на сходки, таскал за пазухой литературку, теперь вот состоит генералиссимусом этой контрреволюционной махины, борющейся с коммунизмом.
— Борющейся с коммунизмом! — крикнул Факторович и взмахнул руками. И, может быть, потому, что голова его горела, он заговорил безудержно и громко о великой социалистической революции. И странное дело — хотя детские кальсоны смешно сползали с его живота, а верблюжья голова изможденного иудея тряслась на нежной шейке, и хотя за темным окном раздавался равномерный ужасающий гул молча идущих полков, не было сомнения, что сила на стороне этого верующего человека, стоящего у окна большой полутемной комнаты, заваленной мешками крупы, связками грибов и венками лука.
— Факторович, голубчик, ложись — вредно ведь тебе, — нежно и настойчиво сказал Москвин и, обняв товарища за плечи, повел его к постели.
Москвин долго уговаривал Факторовича лечь, и когда тот, наконец, согласился, Москвин тоже лег, уткнувшись носом в подушку. Факторович укрылся одеялом, закрыл глаза и утих. Потом он начал бросаться, лег на бок, перевернулся на живот, глаза его открылись, ужас отразился в них.
Москвин, приподняв голову, смотрел на него.
— Факторович, что с тобой? — спросил он сдавленным голосом.
Факторович вдруг откинул одеяло, сел, начал водить рукой по простыне, потом он поднес к своим полуслепым глазам ладонь. Верхотурский, приподнявшись, молча смотрел на него. Москвин сквозь стиснутые зубы издал какой-то рыдающий звук.
— Эта сволочь, — сказал Факторович, показывая на Москвина, — эта впавшая в детство сволочь насыпала мне в кровать пшена.
Москвин, глядя, как Факторович собирает пригоршни пшена, дрыгал ногами и выкрикивал:
— Ой, не могу, вшей-то, вшей-то сколько…
— Фу ты черт, — сказал Верхотурский, — я думал, что товарищ умирает.
Вскоре Факторович снова лег и сказал:
— Товарищ Верхотурский, не то удивительно, что этот тип два часа с кретинической настойчивостью уговаривал меня лечь в постель, меня удивляет, как в такое время, когда поляки прорвали фронт, когда мы отрезаны, коммунист, вместо того, чтобы напрячь все силы мозга для страшной борьбы, развлекается вот такими игрушечками.
Москвин, обессилевший от смеха, махнул рукой и сказал:
— Что со мной говорить, я ведь меньшевик, пропащий для рабочего класса человек, — и грозно добавил: — Ты меня, Факторович, не воспитывай, я из своих боевых ран пролил крови больше, чем ты.
Они начали по-серьезному ссориться, укоряя друг друга и вспоминая разные пустые случаи. Потом они уснули. Москвин похрапывал, а Факторович скрипел во сне зубами, и Верхотурский вспомнил, как в Лукьяновской тюрьме он четыре месяца провел в камере с товарищем, который скрипел ночью зубами; Верхотурский просился в одиночку — этот зубовный скрип раздражал и не давал уснуть.
Должно быть, оттого, что он слишком много ел, у него сделалась жестокая изжога, и он почти до утра лежал с открытыми глазами и, сердито щурясь в темноту, думал о вещах, занимавших его вот уже сорок лет. Мысли его не путались, а шли легко и быстро. Он точно записывал их косым, размашистым почерком. То, что он находился в захваченном поляками городишке, не волновало и не беспокоило его. Он знал, что найдет способ наладить положение, как делал это уже десятки раз.
И только когда он вспомнил громадную пустоту сегодняшнего дня, вспомнил дом, полный дорогих и глупых вещей, разговоры за столом, ужин, обед, завтрак, чай, он забеспокоился, начал думать, как страшно было бы вдруг заболеть и пролежать здесь несколько недель.
А за окном стояла полная тишина. Город, после того, как вошли войска, спал глубоким сном, точно больной, измученный днем страданий в жестокой операционной комнате и наконец впавший в забытье.
Утром город зашумел весь сразу, в домах раскрылись окна, распахнулись парадные двери. Площадь была полна народу. Обыватели встречались, радуясь друг другу, удивляясь встрече, всплескивали руками.
— Ну, что слышно в городе? — спрашивали они.
— Говорят, что штаб армии останется у нас постоянно, — и людям не верилось, глядя на военных, мирно ходивших тут же рядом, что вчера при виде этих серо-голубых шинелей они отходили от окон и, млея, ждали, не утихнет ли вдруг шум шагов возле их дома, не ударит ли мрачный завоеватель винтовочным прикладом по двери. Те, вчерашние, были фронтовиками, они не знали закона, потому что каждый день шли на смерть.
На стенах домов расклеили приказ № 1, и все узнали, что комендант города — полковник Падральский. Полковник Падральский извещал население, что он хочет покоя и того, чтобы жители, не боясь реквизиций, занимались своими делами. Полковник велел всем сдать холодное и огнестрельное оружие, а в последнем пункте приказа жирным шрифтом извещал, что если кто-нибудь вздумает стрелять по войскам из окон, он, полковник Падральский, велит сжечь дом, из которого производилась стрельба, «а все мужское население в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, проживающее в доме, будет расстреляно».
Обыватели, согласно приказу полковника, занялись своими делами: открыли магазины, перчаточные и шапочные мастерские, сапожные и портняжные заведения, кондитерские и пекарни. И краснощекий ювелир, спрятав под старинный темный комод сверток украденных им часов, рассказывал заказчикам, как его «сделал нищим» худой небритый разбойник, тот, у которого он отвоевал лишь свои ботинки.
А худой солдат ехал полем; ноги его коня дымились от пыли, лицо солдата было совсем серым после ночного перехода, и он внимательно рассматривал бритый беленький затылок мальчишки, ведущего эскадрон по дорогам этой чужой страны, о которой товарищи шепотом рассказывали много чудесных и страшных историй.
Да, город зажил мирной жизнью; может быть, эта мирная жизнь и была самым страшным в годы гражданской войны, более страшным, чем кровавые ночные бои у переправ, чем красный террор защищавшейся революции, чем голод и пожары.
Но обыватели не томились своей страшной жизнью, они не понимали смысла шедшей борьбы, и не много сердец сжималось тоской при мысли, что спокойствие, обещанное полковником Падральским, установится на долгое время.