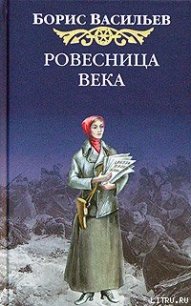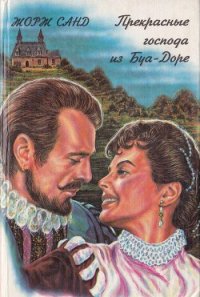Были и небыли. Книга 1. Господа волонтеры - Васильев Борис Львович (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .TXT) 📗
— Верить, что бог создал человека по своему образу и подобию, куда возвышеннее и нравственнее, чем знать, что человек выдумал бога по своему образцу. Именно в этом, Василий Иванович, и заключается нравственность религии и безнравственность атеизма. Именно в этом!
— Вам ли бояться знаний, Лев Николаевич? — улыбнулся князь.
— Знания могут сделать человека умнее, расчетливее, полезнее для общества. Но они бессильны сделать его добрее. Душевнее, как говорят мужики. Душевнее… — задумчиво повторил Толстой. — Нет таких знаний, чтобы, уяснив их, человек стал душевнее. Разум принадлежит человеку, как сила, руки или ноги. А душа… Душа не принадлежит ему. Нет, не принадлежит, и в этом ее особливость. Душа принадлежит чему-то большему, чем сам человек, ее нельзя тренировать, как мускулы, или развивать, как мозг. Ее можно лишь постичь и, постигнув, поступать согласно ее велениям. Тогда и приходит счастье, о котором так тоскует человек. Счастье слитности с душой своей, конец борениям с нею, конец унижения и угнетения ее. И вот тогда, именно тогда, когда возникает эта слитность, эта гармония, человек и становится воистину свободным и воистину бесстрашным. Изнутри, только изнутри! Кто — я? Зачем — я? Почему — я? Какие науки могут ответить на эти вопросы? Какие?
Легче стало не только Олексину, но и всем пленным: привезли котлы и офицерам стали разливать еду по мискам. Добродушный майор перестал потчевать Гавриила из собственной фуражки, тут же с удовольствием напялив ее на голову.
— Вот и дотерпелись, — говорил он. — Терпение, судари мои, великая сила. Благодать божия — терпение наше!
На следующий день поручик сам пошел за едой. Он уже понемногу передвигался, верил, что выкарабкался, и считал, что должен больше двигаться. Юнкер на всякий случай шел рядом, готовый подхватить, если понадобится, да и майор поглядывал, но помощи не потребовалось.
— Вот ложечек мы еще не дотерпелись, — вздохнул майор. — Можно, конечно, и через край похлебать, а только, говорят, тут солдатик один ложки из дерева режет. Ловко режет, подлец, и продает недорого.
— У меня нет денег.
— Да он и так отдаст. Нет, право, отдаст: как же раненому офицеру не отдать? Юнкер, отнесите еду поручика к сараю.
Олексин согласился идти за ложкой только потому, что надеялся найти кого-нибудь из своей роты. Когда брел к котлу, вглядывался в изможденные, равнодушные, удивительно похожие друг на друга лица пленных, но знакомых не встречалось. А слова о солдате, что ловко режет ложки, напомнили Захара: тот тоже умел их резать и в детстве они любили хлебать молоко с земляникой именно его ложками.
— Ну вот и добрались, — удовлетворенно сказал майор.
— Где же?..
Гавриил все же надеялся, очень надеялся и почти верил, что увидит Захара. Но Захара не было; на земле сидел рослый детина, краснорожий и рыжебородый. Заметив поручика, он сразу вскочил и вытянулся, радостно улыбаясь:
— Ваше благородие, неужто не узнаете? Валибеда я, Валибеда! Вы еще меня в батальон за подмогой посылали, да не дошел я, виноват. Лазутчики ихние перехватили, и вот… — Он виновато опустил голову и замолчал.
— Рад, что живой ты, Валибеда. Рад.
— Спасибо на добром слове, ваше благородие! — опять широко и радостно заулыбался Валибеда. — И я за вас рад, уж так рад, так рад! Вам ложечку надобно? Так я вам новую сделаю, тотчас же сделаю. Вы присядьте покуда, присядьте. — Валибеда обернулся к соседу, сказал повелительно: — Эй, борода, подстели-ка шинелку свою их благородию. Не видишь, раненые они, еле стоят.
— Так я пойду, пожалуй, — шепнул майор, пока солдаты бережно усаживали Олексина на вчетверо сложенную шинель. — Вот как славно получилось, что своего встретили.
— Славно, — улыбнулся Гавриил и еще раз сказал: — Я рад, что встретил тебя, Валибеда. Как ножик у тебя не отобрали?
— А я его, ваше благородие, в голенище пронес. Сапоги у меня старые, никто на них не позарился, вот и пронес.
Говоря, он уже ловко работал ножом, все время вертя в руках деревяшку, чтобы определить направление слоев. Определял он их безошибочно, стружка шла без сколов и заусенцев, той длины и толщины, какой хотел мастер.
— Из нашей роты никого не встречал? — помолчав, спросил Гавриил. — Захара моего или французов?
— Из нашей роты никого, как на грех, — вздохнул Валибеда. — Может, в другом каком лагере? Пленных много они набрали, ужас как много.
В лагере уже слышался шум и гогот турецких солдат, но никто на это не обращал внимания. Турки часто ходили смотреть на пленных и неизменно весело хохотали: что-то смешило их при виде покорного людского стада.
И сейчас между пленными брел низенький толстый турок с глуповатым ухмыляющимся лицом. Люди такого стиля обычно исполняют роль шутов, привыкают к этой роли, и идиотическая усмешка точно прирастает к ним, выражая готовность потешать. Турок шел медленно, выбирая жертву для той шутки, которую от него ждали и не исполнить которую он уже не мог. И остановился перед Валибедой.
Увидев турка, Валибеда быстро сунул нож под шинель, на которой сидел поручик, и заулыбался тревожно и заискивающе. Турок неторопливо протянул руку, цепко ухватив Валибеду за косматую рыжую бороду, и стал раскачивать его голову из стороны в сторону. Все примолкли, даже турецкие солдаты, что частью толпились на границе лагеря, а частью шли за шутом в ожидании потехи. И в тишине стало слышно, как часто и испуганно дышит Валибеда. Свободной рукой турок вдруг быстро приспустил шаровары, и тугая струя мочи ударила Валибеде в лицо. Он захрипел, забулькал, замотал головой, а струя била в бороду, в рот, в глаза, и громко, восторженно улюлюкая, хохотали турки.
У Гавриила потемнело в глазах, он слышал уже не стук, а клекот своего сердца где-то в гортани и поэтому не кричал, а только хватал воздух. Хотел встать и не мог, не мог, не было сил, и он шарил по земле руками, чтобы найти, на что опереться. И нашел, нащупал и сразу — даже не понял, нет! — всем существом ощутил, что это — нож. И тут же перестали дрожать колени, перестало клокотать сердце, точно окаменев и изготовившись. Он вскочил легко, одним прыжком, будто не было ни ранения, ни плена, ни голодовки. Рванул турка на себя, развернул и с размаху снизу вверх ударил ножом. Турок закричал тонким пронзительным голосом, а поручик все бил и бил ножом, ощущая, как брызжет чужая кровь, и ничего не чувствуя, кроме яростного торжества.
Не чувствовал он и тогда, когда его оттащили от рухнувшего турка, повалили и начали бить — жестоко и злобно, насмерть. Он сопротивлялся и бил сам, пока не вырвали нож. Повязка соскочила, кровь лилась из открывшейся раны, но он не ощущал ни ее, ни боли, даже когда вдруг перестали убивать. Кровь заливала глаза, он ничего не видел; его тут же подхватили под руки и куда-то быстро поволокли. «Вот и все, — лихорадочно подумал он. — Но я уже ничего не боюсь. Ничего. Я перешагнул…» Он не успел додумать, что же именно он перешагнул и почему это так для него важно. Его грубо поставили на ноги; он качнулся, но устоял, когда вдруг отпустили.
— Кажется, мы знакомы? — на чистейшем французском языке спросил кто-то.
Гавриил отер лицо, успел глянуть, пока кровь снова не залила глаза. Перед ним стоял молодой турецкий офицер. Что-то знакомое мелькнуло в сознании, но Олексин не стал напрягать память.
— Вы мерзавцы! — громко сказал он, нимало не заботясь, поймут ли его. — Я ненавижу и презираю вас. Презираю!
Офицер что-то сказал, поручика опять подхватили под руки, опять поволокли. Теперь-то он точно знал, куда и зачем его волокут, и опять не боялся, с гордостью подумав, что перешагнул. Но подтащили его не к стенке и не к заготовленной могиле, а вволокли в дом и усадили на стул. И кто-то — он не видел кто — стал осторожно и бережно обмывать его лицо и рану на голове. Он успел понять, что это доктор, что его перевязывают, и потерял сознание.