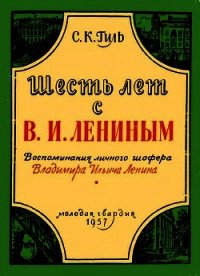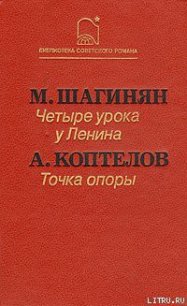Перед прыжком (Роман) - Еремин Дмитрий Иванович (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
Чувствуя, как все в нем бешено напрягается для любви, Толебай молча глядел на нее, не отрывая жадного взгляда.
До этой минуты он видел ее только издали, мельком, когда вместе с другими приезжими, чаще всего с этим вот парнем, которого Толебай, как пустого и глупого болтуна, не взял бы и в пастухи, она проходила мимо стогов, не замечая его. Теперь Вероника стоит с ним рядом. От нее к нему исходят дивные ароматы духов. Нежные ямочки на щеках — невинны, как у ребенка. Голубые глаза на белом лице — подобны цветам. Губы — розовы и пухлы. Они, наверное, удивительны в поцелуях…
— Ты не ответил мне, — привычно отмечая про себя, что нравится ему, и невольно польщенная вниманием такого страстного жениха, уже совсем кокетливо, почти капризно спросила Вероника. — Почему ты выбрал именно меня?
— Ты мне нравишься. И я беру тебя в жены! — с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить ее и не унести на руках в степь, глухо ответил Толебай.
Вероника опять засмеялась:
— А если я соглашусь принять твое предложение? Ты мне тоже нравишься….
Он уже видел, что девушка не принимает его всерьез. И так же мгновенно, как перед тем его охватила страсть, так теперь его охватила расчетливая, привычная злость. Пусть девчонка смеется, пусть пока не принимает его всерьез. Когда он увезет ее в степь, она все поймет… только бы в степь, на волю!
— Если ты согласишься, тогда мой родич Мамбет, которого ты знаешь, — начал он резко…
— Да, знаю.
— Он приведет и скажет, где будут ждать вот этого парня лошадь, верблюды и овцы.
— И ты не обманешь?
— Нет.
— Ты, значит, богатый?
Он снисходительно усмехнулся.
— В этой степи нет ничего, что я не мог бы купить.
— В том числе и меня?
Толебай вспыхнул, скрипнул зубами, но промолчал.
— Тут дело ясное, — принимая все за игру и очень довольный тем, что занимает в этой игре одно из центральных мест, снова вмешался Филька. — Сомневаться не приходится. Раз сказано, что Мамбет пригонит коня да верблюда, так уж тому и быть. Ты, Ника, зря не смущайся. Толебай, как видишь, красивый, влюбленный… чего еще?
— Ну что же, — делая вид, что все еще сомневается, но уже готова поверить, тоже включилась в игру Вероника. — Если выкуп такой хороший, я, может быть, соглашусь…
Бушующая в Толебае то скрытая, то безудержно рвущаяся наружу волна бешеной плотской страсти опять ударила в голову.
Ему, полному дикой могучей силы степняку, человеку древнего рода и богачу, привыкшему к власти над другими людьми, к раболепию слуг и доступности женщин, а теперь по воле большевиков третью неделю живущему здесь после суда над Архетом, среди разного сброда, под строгим присмотром, и не в раздольной степи под всевидящим оком аллаха, а возле железной дороги, по которой день за днем дымящие паровозы тянут длинные поезда, вся эта жизнь подневольного человека, без прежней роскоши и свободы, без женщин, которые теперь лишь сладостно снятся ему по ночам и от этого живые становятся только желаннее, — ему сейчас Вероника казалась самой прекрасной, самой желанной, сулила возможность скорейшего утоления страсти… может быть, даже сейчас же, теперь же, пусть на глазах у этого глупого парня.
Откровенная шутливость девчонки в конце концов не имеет значения: все встанет на свои места потом. Все встанет. Девчонка — прелестна. Тело ее красиво. Шея — как у весеннего лебедя. Груди подобны спелым плодам. Ноги — стройны и округлы…
От мучительного напряжения воли, которая едва удерживала его от того, чтобы и в самом деле не прыгнуть и не схватить лукавую пэри, — ему стало душно. Он тяжко повел налитыми силой плечами, глухо выдавил:
— Я повышаю цену выкупа вдвое…
Девушка с шутливо-торжествующим видом взглянула на Фильку:
— Тогда тем более…
Тот перебил ее:
— Правильно! За такую комиссию, брат, меньше нельзя!
— Будет и десять барашка, — с презрением подтвердил Толебай.
— Ух, молодец! — восхитился Филька, уже всерьез соображая, как бы действительно получить на таком сватовстве с десяток жирных барашков. Лошадь с верблюдом ему ни к чему, а вот барашки…
— Тогда, значит, братцы, так, — деловито обратился он одновременно к Толебаю и Веронике. — Завтра вечером окончательно встретимся тут же, у стога. Как кончим работу, как перед этим твой Мамбет приведет мне барашков, так тут мы и встретимся. Как говорится, мой товар — твои деньги….
…Но эта вторая встреча у стога не состоялась.
О ней узнал Тарас Кузовной и не просто рассердился, а рассвирепел и запретил даже думать о чем-то подобном.
— Ишь чего выдумали. Такое в башку придет только спьяну, да и то после штофа хорошего первача! — ругал он виновато ухмылявшегося Фильку. — Как тебя тут дразнят? «Битым»? Не-ет, мало тебя били! Надо было лупить, как Сидорову козу, только тогда, глядишь, поумнел бы! Все ему шуточки! Я тебе пошутю! Ты у меня вылетишь отсюда в Славгород! Там с тобой разберутся, долго думать не станут!
Все еще ругаясь, он пошел к прессам, где молчаливый, весь день сосредоточенно думающий о чем-то Толе- бай споро, но без вчерашнего возбуждения, скорее даже равнодушно, таскал железным крюком прессованные кипы сена к порожним платформам.
Полный предостережений и угроз выговор начальника он выслушал стоя, не проронив ни слова. Лишь и без того хмурое, до черноты загоревшее лицо его становилось все жестче и темнее, да указательный палец ритмично постукивал по отшлифованному сеном толстому железному крюку, будто Толебай все время мысленно перебирал свои драгоценные четки, посылая аллаху молитву за молитвой — в отмщение ненавистным большевикам.
Привлеченные криком начальника, перестали работать и остальные казахи.
Остановил свой пресс и Сухорукий. Озлившись в Славгороде на Малкина, он теперь вымещал свою злость на «рыжиках», не давая ни им, ни себе передышки. Но на этот раз шум у второго пресса был особенным, необычным, и мрачный Игнат велел Семену Половинщикову, который в изнеможении повалился было возле пресса на кучку сена:
— Пойди узнай, чего там у них. Кузовной зря лаяться не будет. Давай, давай. Чего разлегся! Лежать будешь в вагоне, когда поедем обратно. Сейчас работай…
А Толебай стоял и молчал. Казалось, он даже не слышал того, что втолковывал ему сердитый начальник, выразительно постукивая ладонью по оттягивающему ремень оружию.
Что ему, Толебаю Алтынбаеву, эти угрозы? Он их не боялся и на суде. Тем более ничего не боится здесь. И если боится, то лишь одного: потерять себя, свое лицо господина этих степей. А здесь он себя теряет. Даже ничтожнейший, глупый парень Филька зло посмеялся над ним. Теперь его ругает начальник — тоже ничтожный, покрытый пылью и потом, грубый мужик. Такого всего год назад Толебай отшвырнул бы носком ичига, а теперь должен стоять и молчать. Терпеть унижение на глазах любопытствующей толпы поверивших русским нищих единоверцев вроде Нури, чтобы потом опять таскать от прессов проклятые кипы…
Зачем ему это? Не пора ли решиться и с еще уцелевшим в укромном месте табуном чистопородных коней тайно уйти из этих степей в другие — к отцу в Джунгарию? А через год или два — опять вернуться сюда хозяином, властелином? Вернуться — и отомстить…
Не дослушав того, что ему продолжал внушать рассерженный Кузовной, Толебай неожиданно для всех резко повернулся и шагнул к пирамиде спрессованных кип, аккуратно сложенных в виде колодца, приготовленного для ссыпки зерна.
Удивленные этим казахи и русские рабочие расступились.
— Ты что? Куда? — не понял и Кузовной.
И вдруг пронзительно закричал:
— Стой… погоди. Не смей!
Но было уже поздно: Толебай положил левую ладонь на одну из кип и изо всех сил, с размаху пронзил ее острым крюком. Было видно, как ярко-красная кровь брызнула из-под железа на землю…
В тот же день до предела разъяренный вызывающим поступком байского сынка, но и бессильный как-либо наказать его за этот дикий поступок, Кузовной отправил посеревшего от боли, но намертво замкнувшегося в себе, как бы отрешенного от всего, не отвечающего ни на угрозы, ни на уговоры Толебая в Славгородский лазарет в сопровождении красноармейца.