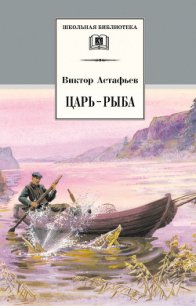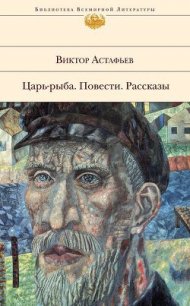Царь-рыба - Астафьев Виктор Петрович (книги онлайн полные версии бесплатно TXT) 📗
– Отруби! – небрежно бросил Герцев, приняв от нее платок и завязывая его с ловкостью фокусника вокруг пальца.
– Найдешь месторождение, прииск, твоим именем назовут?
– Что? А-а! Не возражал бы. Но, главное, получить кругленькую сумму и навсегда расквитаться за глупость молодости. Послать бы разом из расчета полста рэ алименты до совершеннолетия дочери.
– Не щедро для открывателя месторождения!
– Нечего баловать детей!
– Умный, ты! Ох, умный!
– Всего лишь практичный. Не находишь?
– Нахожу. И все-таки шарлатанством попахивает.
– М-м, пожалуй, ты не точна. Скорее дилетантство. Но один умный режиссер меня успокоил, сказав: «Современному искусству не хватает дилетантов». Науке, по-моему, тоже.
– Восполняешь?
– Кому-то ж надо страдать за общество.
– Нынче желающих страдать за общество на словах навалом! – съязвила Эля, и у патрона ее сразу начал наливаться тяжестью взгляд. Топорик, который он подправлял бруском, вязнул в пальцах, пробующих острие, движения затормозились, клубящаяся муть поднималась из отстойников, слепила, перекручивала человека, и, если он не пересилит себя, даст захлестнуть, рубанет, может рубануть – отверделая, давняя злоба спластовалась в залежах души Герцева, а родители, говорил, слабаки и добряки были. Вот тут и разберись в генах этих самых. Нет уж, лучше не вертеть запал у мины, не баловаться – вдруг да неигрушечная…
После у них всего было навалом – она и капризничала, и плакала, и бросала в сожителя чем попало, лаяла его, но он все сносил, однако близко ее уже не подпускал, от разговоров о личном уклонялся, да к той поре ничто их вместе, кроме единой цели – найти экспедицию, и не удерживало. Эля чувствовала: Горцев только сбудет ее с рук, тут же перестанет о ней думать, тогда и ей тоже мнилось: с глаз долой – из сердца вон…
Долгими вечерами, сидя против дверцы печурки, глядя в пылкий, от ореховой скорлупы по-особенному жаркий и скоромный огонь, сумерничая при свете лампы-горнушки в прибранной, со всех сторон стиснутой тайгой и темнотою избушке, Эля слушала дневники Герцева, пытаясь что-то понять, пусть припоздало, разобраться, что и почему произошло с нею.
Общие тетради, завернутые в целлофановую пленку, Герцев таскал с собою в кармане, пришитом под спиною к рюкзаку. Судя по охранным предосторожностям, Гога дорожил дневниками. В тетрадях встречались записи геологического порядка, состоящие из специальных терминов, сильно, до неразборчивости сокращенных. Судя по записям, Герцев с геологией не покончил и вел свои наблюдения, подобно британскому детективу, частным, так сказать, порядком. Зимами расшифровывал заметки, обрабатывал, наносил наблюдения на карту. Но с собой подробных записей у него не было, и карта была помечена системой крестиков, в большинстве своем в устьях речек, кипунов и потоков.
Почему, зачем поманили ее дневники Герцева? Узнать чужие тайны? Но Гога от людей скрывал вещи, мораль же свою всегда держал на виду, хоть она у него и была паче гордости. Записи и мысли свои он считал столь высокими, что не боялся за них – не уведут, они в другой башке попросту не поместятся. А стесняться? Чего же? Он не школьник, что стережет и прячет свои тайны под подушкой.
Удивляло немножко, что такой аккуратный в делах человек не ставил имен авторов под цитатами из книг и научных трудов, как бы ненароком путая чужое со своим, – исключение сделано лишь для Блаженного Августина да модного средь студентов той поры Сент-Экзюпери. Запись, сделанная, видать, еще в отроческие годы, в общем-то, ни о каком еще снобизме не свидетельствовала: «Природа – более мачеха, нежели мать – бросила человека в жизнь с нагим телом, слабым, ничтожным, с душою, которую тревожат заботы, страшит робость, увлекают страсти, но в которой между тем, хотя полузадушенная, всегда остается божественная искра рассудка и гения». – Блаж. Августин. Влияние Блаженного Августина на духовное формирование юного мыслителя было непродолжительным – уже первые записи в студенческой тетради рвали глаз: «Люди, как черви, копошатся на трупе земли». ?Хорошо артисту – он может быть царем, любовником, героем, даже свободным человеком, пусть хоть игрушечно, пусть хоть на время». «Неужели человеку надо было подняться с четырех лап на две, чтобы со временем наложить на себя освободившиеся руки?». «Законы создали слабые, в защиту от сильных». «Счастье мужчины: „Я хочу!“ Счастье женщины: „Он хочет!“ Конечно, Ницше.
«Все люди, одни более, другие менее, смутно ощущают потребность родиться заново» – Сент-Экзюпери.
– Зачем ведут дневники? – отложив тетрадь, закуривая, спросил Аким, глядя на затухающий огонь лампы, поставленной на полочку в запечье. Они старались обходиться печкой, берегли керосин, свечи, жир и горнушку засвечивали, лишь когда упочинивались. Эля не отвечала, не слышала вопроса, уйдя в те слова и мысли, что читал ей Аким, не всегда верно делая ударения, с трудом разбирая почерк Гоги, напористый, заостренный, – буквы прыгали, слова налезали одно на другое, будто торопились куда-то.
– В войну подбили подводную лодку, – опустив на колени упочинку, не открывая глаз, заговорила Эля бесцветным, тихим голосом, – лодка упала на морское дно. Команда медленно, мучительно погибала от недостатка воздуха, командир подлодки до последнего вдоха вел дневник. Когда лодку подняли и жена прочла дневник мужа, командира подлодки, она всю жизнь посвятила тому, чтобы изобрести элемент, вырабатывающий кислород, – и, чуть изменив интонацию, добавила: – Вот они какие бывают, жены! А вообще-то люди ведут дневники, когда побеседовать не с кем, замкнутые чаще люди, ну и те, которые знают или думают, что их жизнь и мысли представляют большую ценность…
– А-а! Понятно. Дальше тут стихи. Пропустить?
– Нет, читай! Все читай, времени у нас навалом, – Эля наклонилась к рукавице, на которую лепила латку, рукавицы не носились – горели, Аким таскал трещобник на дрова.
– «Большинство стихов записано в студенческие годы и в поле, – прочел Аким. – Они сочинены людьми, которые могли стать поэтами, но вообразили себя поэтами раньше, чем ими стали, пропили свой талант, истаскали по кабакам, вытрепали в хмельном застолье…» – Аким прокашлялся и перешел к стихам:
Что же есть одиночество?
Что же это за зверь?
Одиночка – и хочется
На волю, за дверь?
Ну а может быть. просто –
Твой отчаянный крик
С нелюдимого острова
На материк?
Что же есть одиночество?
Что не понят другим,
И стихи, и пророчества –
Беспредметны, как дым?
И что все твои замыслы,
Все, чем жизнь дорога, –
Непролазные заросли
И мрачны, как тайга?
Что же есть одиночество? –
Не понять мне вовек.
Может, миг, когда корчится
В петле человек?..
x x x
Пустыня от зноя томится,
На дюнах молчанье лежит,
И дремлет с детенышем львица,
Качая в глазах миражи.
Под пальмою звери уснули,
Предательски хрустнул песок,
И львице горячая пуля
Ударила в рыжий висок.
Еще не набравшись силенок.
От крови разъярен и ал,
Вскочил перепуганный львенок
И тут же от боли упал.
Он вырос, враждуя со счастьем,
Крещенный смертельным огнем,
И знает, как, злая от страсти,
Тоскует подруга о нем.
Тяжелые веки прищурив
И вспомнив ту рану в боку.
Он видит песчаные бури,
Сыпучих барханов тоску…
Усталый, но гордый доныне,
В неволе людской поумнев,
Он рвется на голос пустыни,
Седой и бунтуюший лев.
x x x
Едва прошла блистательная ночь,
Скабрезная и скаредная шлюха,
Уж новая – холодная., как нож,
В моем веселом доме бродит глухо.
О, эта ночь! Простор, упавший навзничь.
Хрипит и содрогается от ветра.
И час, что не назначен и не назван, –
Стучится в окна, Черепа И двери.