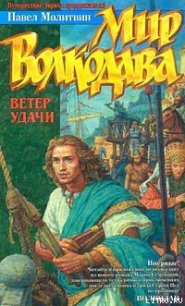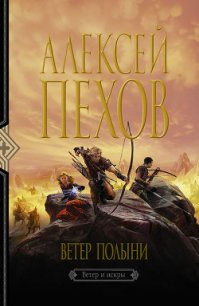Ветер удачи (Повести) - Абдашев Юрий Николаевич (книга регистрации .txt) 📗
Кешка затаил дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Он не видел сейчас ни оператора с камерой, ни людей, облепивших крутой склон, ни даже Большого Генриха. Все это расплылось и куда-то исчезло в ночи. Перед ним были берег океана, догорающая деревня и молчаливые туземцы, столпившиеся возле своих утлых пирог.
— Сын мой, подойди ближе, — приказал вождь, повернувшись лицом к своим соплеменникам. На лбу и щеках его багровыми бликами отражалось еще не угасшее пламя.
Из толпы вышел смуглый мускулистый юноша и остановился в почтительном отдалении.
— Мы навсегда оставляем этот остров, — продолжал вождь. — Тэренги, спускай в воду пироги. Ты будешь плыть первым, и пусть ваши паруса движет Марааму. Взойдет солнце — беги от него и смотри, куда направляется зыбь. Станет садиться — спеши за ним следом…
И вот наступил день, когда Василь Сергеич сообщил Кешке грустную новость: через двое суток вся киногруппа покидает Каменоломню. До обеда Кешка не мог найти себе места. Трудно было представить, что этот праздник души, этот веселый маскарад, длившийся так долго, уже подходит к концу, как и все другие праздники на свете. В его ушах еще гремели выстрелы, звенели шпаги и звучали слова: «Спал Таароа с женой своей Хиной, богиней воздуха, таково ее имя…»
Послонявшись вокруг дома, Кешка нашел на огороде толстый ивовый прут и тут же принялся обрабатывать его своим замечательным складным ножом с маленькой пилкой, счищать присохшую кожицу. Потом пробил дырку в жестяной крышечке от домашних консервов и надел ее на заостренный прут. Получилась тонкая и длинная рапира. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, Кешка вернулся домой и подошел к шифоньеру с зеркальной дверцей. В ней отразилось его лицо с чуть вздернутым облупленным носом, оттопыренными ушами и такими же, как у Антона, крупными рыжими веснушками. Он недовольно поморщился и постарался придать лицу выражение независимое и гордое. Потом резко выбросил вперед рапиру и стал в позицию. Его двойник в зеркале сделал то же самое. Кешка взмахнул своим самодельным клинком, отбивая оружие противника, и прут со свистом разрезал воздух.
— Ну что, не нравится? — прохрипел он каким-то чужим простуженным голосом. — Вот вы и проговорились, сударь. — И Кешка саркастически расхохотался. — На этот раз вас подвели нервы и бурный испанский темперамент. Ваше Всевидящее око — это одноглазый помощник капитана. Но, клянусь челюстью акулы, пожирательницы трупов, я позабочусь о том, чтобы еще до захода солнца он болтался на стеньге фок-мачты…
Кешка замолчал и замер на месте, потому что услышал за спиной какое-то движение и тихий смех. Он пристальнее всмотрелся в зеркало и, к ужасу своему, увидел в дверях героя Мишу рядом с квартирантом Василь Сергеичем. Миша легонько захлопал в ладоши. Его артистически выразительные серые глаза были почти скрыты под длинными выгоревшими ресницами.
— Ну и память у тебя, старик! — воскликнул он. — Блистательный монолог! Правда, насчет челюсти и трупов тут, пожалуй, хватили лишку. Но это уж не наша с тобой вина. Я думаю, это придумал сам Олег Петрович. Зато теперь-то я знаю точно: ты собираешься стать актером и сниматься в кино.
Кешка стоял смущенный, раскрасневшийся, пряча за спиной свою деревянную рапиру.
— Неужели ты действительно хочешь стать актером? — продолжал Миша, усаживаясь на старый скрипучий диван. Он забросил ногу на ногу, продолжая испытующе смотреть на Кешку.
— Не знаю…
— А что, дружок, это не так уж плохо, — заметил Василь Сергеич.
— Упаси бог, — перебил его Миша. — С искусством лучше не связываться. Я, например, кончил три курса иняза, а потом все бросил. И ради чего? Ради какой-то театральной студии. Теперь вот часто жалею.
— Я правда не знаю, — честно признался Кешка. — И тем хочется, и этим…
— Все верно, — обрадовался Василь Сергеич. — Тогда тебе одна дорога — в артисты.
— Будь лучше моряком, — посоветовал Миша. — То ли дело — романтика! Ты послушай, старик, как по-английски звучат названия парусов. Наши брамсели они называют «гэлент-сейлз», то есть доблестные. Затем идут «ройял-сейлз» — королевские паруса и на самом верху «скай-сейлз» — небесные паруса. Здорово, правда?
— Все так, — сказал Василь Сергеич, доставая из кармана свою трубку. — И все-таки театр — великая литература… Ведь не зря говорят: жизнь коротка, искусство вечно. А цель свою надо знать с детства. Вон Антон твой, он уже сейчас знает точно, кем хочет быть. Генералом!
— Антон? — переспросил Миша. — A-а, это тот самый, с автоматом. Жертва эмансипации! Женщины вообще лучше нас знают, чего хотят. Божественная леди Эмма, например…
— А вот помните, — вдруг заговорил Кешка, — когда эта леди Эмма была привязана к дереву и уже начали снимать, она закричала: «Генрих Спиридонович, мне больно!» Что же люди теперь подумают, когда в кино придут?
— Все это чепуха, — ответил Миша. — Когда станут озвучивать фильм, она скажет именно те слова, какие надо. В решительный момент мы всегда говорим то, что положено по сценарию. Этот Жулик, этот несчастный попугай, который восемьдесят лет просидел в клетке и, заметь, почти все время вниз головой, тоже молол всякий вздор, а в фильме он будет запросто насвистывать английский гимн «Правь, Британия».
— Да я не о том, — с досадой вырвалось у Кешки. — Ведь ей было больно!
— А кому не больно? Муравьям, когда их топчут, тоже больно, — возразил Миша. — Искусство — зеркало жизни, коварное отражение, с которым ты сейчас пытался вступить в поединок. Там все как в натуре и в то же время все наоборот. Правая рука становится левой, левая — правой. Разве ты не заметил, что враг твой левша. А левша очень опасный противник.
— Это уж как посмотреть, — засмеялся Василь Сергеич. — Все мы видели, как лихо Миша расправился с Серопом, то есть с доном Диего, когда они дрались там, у скал. Так вот, чтобы ты знал: шпагу в руках Миша держал третий раз в жизни…
— Положим — четвертый, — самолюбиво поправил герой фильма.
— Пусть четвертый, — согласился Василь Сергеич. — А Сероп, между прочим, мастер спорта по фехтованию. Такое увидишь только в кино.
— И вообще, — махнул рукой Миша, — самый умный человек, которого я встречал, имел фамилию Дураков.
На следующее утро Кешка проснулся раньше всех в доме и по обыкновению выбрался через окно на улицу. Небо было туманным и серым, так что могло показаться, будто по пыльным листьям вот-вот зашелестит дождь. Зачерствевшая, истосковавшаяся по влаге земля как благословения ждала спорого обильного ливня. Без всякой цели Кешка побрел вниз по улочке в сторону моря. В старые времена можно было бы половить желтопузиков, но теперь он знал: в жизни его что-то изменилось и уже никогда не будет так, как было прежде.
Возле домика, похожего на вылупившегося птенца, он остановился. Окно в комнату было открыто, а на подоконнике стояла знакомая клетка, прикрытая темной шелковой накидкой. От нее Кешку отделяли только невысокая ограда да буйно разросшиеся георгины в небольшом палисадничке. До сих пор ему еще ни разу не приходилось видеть попугая вблизи. Не раздумывая, он бесшумно перемахнул через штакетник и, остановившись у окна, прислушался. В комнате было тихо. Тогда Кешка начал потихоньку стягивать с клетки покрывало.
Белая птица сидела на низенькой жердочке с закрытыми глазами. Потом плотное кожистое веко дрогнуло, и один глаз приоткрылся. Приглядись к нему человек поискушеннее, он наверняка заметил бы не только плутоватый прищур. В этом темном зрачке была сосредоточена вся вековая мудрость.
Попугай поднял лапу и стал покусывать крючковатым коричневым клювом собственный коготь. Кончик языка у него был тупой и черный, отчего казалось, будто во рту он держит круглый каленый орешек.
Трудно было поверить, что бедный Жулик просидел в этой клетке целых восемьдесят лет. Кто и за какие грехи приговорил его к пожизненному заключению, сделав вечным пленником этого маленького земного шара из проволочных параллелей и меридианов? Рядом, за окном, в большом мире, рождался новый день. Осиливая утренний туман, пробивалось солнце, и в воздухе с тяжким гудением проносились мохнатые работяги-шмели. С такой несправедливостью трудно было смириться. Кешке невольно вспомнились те несчастные восемь часов, которые он, хоть и за дело, провел запертым в кладовке, то тягостное ощущение утраченной вольности, что пришлось испытать тогда, и душа его наполнилась состраданием.