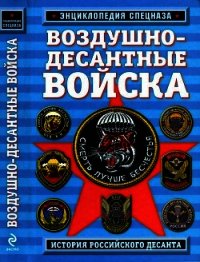Том 3. Воздушный десант - Кожевников Алексей Венедиктович (бесплатные онлайн книги читаем полные .TXT) 📗
Пометалась-пометалась и потеряла сознание. Сколько пролежала без чувств — не знаю. Очнувшись, вижу в бане яркий свет. Надо мной склонились два гестаповца, спрашивают:
«Куда идешь? Кто такая? Как попала сюда?»
Я — знай одно:
«Иду домой. А что тут фронт, не знала. В немецких газетах пишут, что фронт далеко, за Волгой».
Потом меня заперли в подвал, где держали смертников. Две недели, каждый день, водили из подвала в жандармскую канцелярию и допрашивали до того, что я падала со стула. Еще раз обыскивали, но у меня ничего не было тайного, а план, нацарапанный по ноге, обшелушился.
В конце всех мук вынесли решение — расстрелять.
Дубовку часто накрывали наши родные батареи. И в тот момент, когда меня вели последний раз из жандармской канцелярии в подвал, начался сильный артиллерийский налет. У конвоиров поднялась паника, суматоха: куда прятаться самим? Куда девать меня? Вижу, я тут лишняя, обуза, помеха — и побежала. Догонять меня под огнем советских батарей никто не решился. Так и улетела.
Танюшка, вся загоревшись счастьем, торжеством, несколько раз всхлопывает ладошками.
— Порхнула я в одну сторону, за угол, потом в другую, через плетень в сад, затем еще и еще. Очутилась на окраине Дубовки. По всему селу — ни одного человека, всех, и военных и мирных, размело артналетом, как пыль ветром. Но кончится артналет — и гитлерня выползет на улицы, вроде червей после дождя.
Затаилась я под кусточком сирени и оглядываю, куда же сунуться, к кому стукнуться. Возле одной хатенки сидит женщина и укачивает на руках младенца. Через свою бездомную жизнь я знаю, что самые сердобольные из людей беременные и детные женщины. Подхожу к ней. Она качает и поет:
А в пеленках у нее — полено, самое настоящее, необделанное полено.
Бывает, маленькие девочки имеют для игры деревянных кукол, бывает, берут простые деревяшки, щепки, пеленают, качают их… все как с живыми младенцами. А здесь была женщина и укачивала деревяшку всерьез, а не играла, не шутковала с нею. Когда я подошла близко, она обернулась на меня и зашипела страшно, как змея. Я не решилась заговорить с ней.
Но тут из хатки вышла другая женщина, старуха, и увела молодую с младенцем из полена во двор. Заодно впустила и меня. Канонада притихла. Конвоиры кинулись на поиски, но добрая старушка спрятала меня в погреб. Два дня высидела я в том погребе. Старушка давала мне еду, питье, разную теплую ветошь укрыться от холода. В погребе сохранялся снег. Много раз старушка оставалась посидеть со мной и все горевала о той женщине, что возилась с поленом, как с младенцем. Это была ее дочка. В канун войны она вышла замуж, забеременела и родила хорошенького сыночка. Родила уже без мужа, которого взяли на войну, и полюбила за двоих. Куда сама, туда и сыночка, никогда не спускала его с рук и спать брала с собой. Когда немцев турнули сперва от Москвы, потом от Сталинграда, они решили укрепиться здесь, на Днепре. Погнали всех-всех рыть окопы. Потребовали и эту женщину. Она сказала:
«Не могу, сынок не пускает».
«Какой? Где он?»
«Вот», — и подняла сынка над головой. Кудрявый, полненький, розовый, как ангел.
А фашисты бах-бах в него и застрелили, потом: «Го-го-го!.. Теперь пустит!»
Ну, женщина и лишилась разума — мертвое полено считает живым сыночком, пеленает его, баюкает, целует. Погреб близко от хаты, во дворе, в нем все слышно. Два дня слушала я эту материнскую любовь, слез пролила… чуть-чуть не растопила в погребе весь снег и запомнила все песенки несчастной, все словечки навечно.
Танюшка умолкла, закрыла лицо ладонями. Сквозь пальцы пробились слезы. Потом, совладев с ними, сказала:
— Сойдется же: одному — смертное горе, гибель, а другому — радость, спасение. В смертном горе той женщины, в погибели ее сыночка, я нашла себе избавление от смерти. Но я не могу радоваться, тут больше пристало плакать. Слушая несчастную мать, подумала: заведу и я себе деревянного сыночка. Он спасет меня, проведет до дому…
Облавы, обыски кончились. На меня либо махнули рукой, либо схватили кого-нибудь взамен. Я попросила у хозяйки немного ветоши, потом завернула в нее небольшое полено и начала выбираться из Дубовки. Здесь испытывать свое счастье — еще раз пробовать перейти за фронт — было слишком опасно.
Ясный день. Небо чистое, ни самолетов в нем, ни снарядов. На улицах полно гитлерни. А я иду смело, прямо, будто на всем свете одна со своим сыночком. Иду, укачиваю его. То запою:
То начну целовать его: «Ах ты мой богатырь, мой защитник!»
Иду навстречу фашистским патрулям, мимо немецкой комендатуры. Все делаю как та безумная.
Прошла всю Дубовку и еще два поста за ней — не спросили ни пропуска, ни имени, знать, приняли за ту несчастную. Вид у меня был под стать ей: лохматая, драная, грязная, босая.
На третьей заставе остановили. «Пропуск!»
Я укачиваю сыночка. «Бай-бай-бай!..»
«Кто такая? Куда идешь?»
Я свое: «Бай-бай!..»
На заставе решили не возиться со мной и сдали в ближнюю комендатуру. Там знакомая история: «Пропуск? Кто такая?» Потом офицер, что снимал допрос, вызвал двух солдат и приказал:
«Обыскать! Раздеть!»
С меня сдернули платок. Но чуть только коснулись до полена, я подняла такой крик, что даже у самой заныли уши. Меня отхлестали плетью, раздели до нижнего белья и начали прощупывать каждую латку. Я сунулась в угол и плачу-плачу, уже не поддельными, а искренними слезами, от стыда, от обиды, от страха. Больше всего боялась, что вернут в Дубовку.
Когда разрешили одеться, я сначала схватила и закутала полено. Меня отправили в подвал, в одиночку. Я решила, что за мной, пожалуй, подглядывают, и продолжала свое: «Бай-бай-бай!»
Утром меня вытолкнули на двор, вырвали полено, дали лопату и погнали с другими заключенными на окопы. Я немножко переменила свою игру — копаю и все наговариваю: «Не плачь, Юрочка, не горюй, миленький. Я вырою тебя». Завидев палку, щепку, тотчас хватала их, а лопату в сторону и с криком: «Нашла, жив!» — начинала целовать, пеленать.
На ночь меня оставляли с сыночком. Зато утром отнимали его и совали в руки лопату. Я поднимала дикий вопль. По дороге и на окопах до первой щепки или палки бормотала: «Не плачь, Юрочка, я найду, откопаю тебя». Много раз хлестали меня плетью, много отняли сыночков, но я упорно вела свою игру. Наконец и заключенные и конвоиры поверили в мое безумие, за мной стали меньше следить, и я убежала.
Потом еще много раз и задерживали, и обыскивали, и допрашивали, но мой сыночек, мой деревянный богатырь, всегда выручал меня. И вот я снова среди друзей, служу им. И сыночек со мной. Через фронт, правда, и он не сумел провести. Меня так измучили арестами, допросами, разными пытками, что пришлось отказаться от фронта.
Танюшка развернула то круглое, что принял я за гранату, и протянула мне:
— Знакомьтесь! Мой сыночек. Прошу любить и жаловать!
Невольно с трепетом, двумя руками, как нежного, хрупкого младенца, беру обрубок полена, совершенно первозданного, даже неошкуренного. Мне почему-то стало жаль его, я говорю Танюшке:
— Сынок-то очень уже запущен. Надо бы постругать да нарисовать носик, ротик, глазки.
— Ничего не надо. Так он лучше служит, сильней подчеркивает мое безумие.
— Не понимаю.
— Если я деревяшку считаю живым младенцем, то откуда же у меня ум разрисовывать ее? Разрисованный может навести на сомнение.
Возвращаю сыночка Танюшке.
— Вы всегда с ним?
— Теперь не расстаюсь. Это мой самый большой документ, самый надежный пропуск.
— Он у вас который?
— Не знаю, не считала. Много поотнимали и побросали когда в мусор, когда в огонь немцы. Много побросала сама, пока не сообразила, что при моей жизни самое лучшее — носить постоянно за пазухой. Одного отдала в экспонаты для музея. Есть у меня в райгороде знакомый инвалид-музейщик. На время войны он распрятал музей для сохранности по домам, а жить без такой работы не может, ну и пристал ко мне: «Отдай сыночка в музей подпольного и партизанского движения». Отдала.