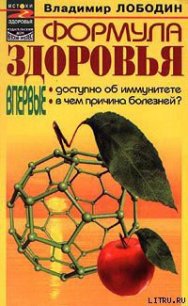Формула памяти - Никольский Борис (бесплатные серии книг .TXT, .FB2) 📗
— А-а! Пополнение прибыло! Ну, в добрый час, в добрый час! Мы тут возлагаем на вас кое-какие надежды, — проговорил Мережников, который, вопреки предсказаниям Гурьянова, оказался в лаборатории, и тут же передал Леночку на попечение своей заместительнице Вере Валентиновне.
Мережников, полный, даже слишком полный для своих сорока с небольшим лет, близоруко щурящийся из-под выпуклых очков навстречу Леночке, производил, как почти все толстые, близорукие люди, впечатление мягкого, добродушного, покладистого человека. Но сейчас он тоже был либо озабочен, либо расстроен чем-то, ему было явно не до Леночки Вартанян, и ей даже показалось: он отключился, забыл о ней сразу же, едва лишь она отошла от него.
— Ну что ж… — сказала Вера Валентиновна, внимательным, оценивающим взглядом ощупывая Леночку. — Круг своих обязанностей вы, как я предполагаю, уже более или менее знаете. Для начала вы будете заниматься тестированием и обработкой результатов по программе, разработанной Петром Евгеньевичем. Ваша дипломная работа ведь была посвящена зрительным кодам в кратковременной памяти, не так ли? Я слышала, слышала, мне говорил о вас Петр Евгеньевич. По его рассказам я представляла вас… как бы это сказать… немножко солиднее, что ли… А вы, оказывается, совсем еще девчушка. Ну, а теперь пойдемте прежде всего предстанем перед институтским начальством…
От одной лишь мысли, что ей сейчас предстоит встретиться с самим Архиповым, у Леночки заколотилось сердце. Она не предполагала, что это произойдет так быстро, сегодня же. О чем он станет спрашивать ее, что скажет?..
Идя рядом с Верой Валентиновной по институтскому коридору, Леночка старалась не обнаружить перед ней свою растерянность, свое волнение. Но вот они миновали директорский кабинет, дверь с табличкой «Директор» осталась позади, а Вера Валентиновна даже не замедлила шаг.
— Разве мы не к Архипову? Не к Ивану Дмитриевичу? — спросила Леночка, преодолев робость.
— Ну что вы, Леночка! — снисходительно отозвалась Вера Валентиновна. — Во-первых, Иван Дмитриевич в данный момент за границей, в Японии. А во-вторых, неужели вы всерьез думаете, что Архипов здесь что-нибудь решает? Не будьте так наивны. Это видимость, миф, своего рода парадная вывеска института, символ, только и всего. Иван Дмитриевич, конечно же, очень милый человек, вы еще сможете в этом убедиться, но сегодня он уже подобен царь-пушке, которая, может быть, и поражает наше воображение, но, увы, не стреляет…
Вера Валентиновна поведала все это окончательно сбитой с толку Леночке с явным удовольствием — судя по всему, она принадлежала к тому довольно распространенному типу женщин, которых хлебом не корми, дай только возможность показать свою осведомленность, первой просветить непосвященного, или, говоря современным языком, в в е с т и в к у р с д е л а. А Леночке сразу вспомнился отец — торжествующий, с томом Большой Советской Энциклопедии в руках, преисполненный гордости за нее, свою дочь, с его нелепой, наивной верой в незыблемость авторитетов, и у нее перехватило горло: она сама не знала еще, чего ей хочется сейчас больше — рассмеяться или заплакать. Но как раз тут Вера Валентиновна остановилась возле двери, рядом с которой была привинчена аккуратная продолговатая табличка:
«Заместитель директора, доктор биологических наук Перфильев А. Б.»
Вера Валентиновна постучала в дверь, и оттуда, из глубины кабинета, мужской голос ответил:
— Войдите!..
И едва лишь раздался звук этого голоса, Леночка сразу, мгновенно вспомнила, где и когда впервые услышала эту фамилию, где и когда видела уже этого человека.
Перфильев!
Ну конечно же, она знала этого человека! И как она не вспомнила раньше!
Тогда-то, года три назад, когда она впервые увидела его, Перфильев, казалось, накрепко запал ей в память. Пожалуй, она даже слегка влюбилась в него, и даже страдала от сознания безнадежности и запретности этой своей влюбленности, и отчаянно завидовала Галке Тамбовцевой, своей однокурснице, за которой ухаживал этот человек.
Леночка видела Перфильева только один-единственный раз. Это было на студенческой вечеринке, куда как-то затащила Галка Тамбовцева своего будущего мужа.
Еще раньше Леночка слышала от подруг, что у Галки — роман с талантливым ученым, доктором наук, и в душе жалела Галку, потому что этот неведомый доктор наук представлялся ей пожилым, полнеющим человеком в очках и с залысинами. Сама она никогда бы не позволила такому ухаживать за собой.
А тут, на вечеринке, она увидела рядом с Галкой чуть ли не мальчишку — худощавого, энергичного, загорелого (хотя была середина зимы), подтянутого человека, походившего скорее на спортсмена, чем на известного ученого. Впрочем, тогда же выяснилось, что Перфильев и верно увлекается спортом — горными лыжами и только что вернулся из горнолыжного спортивного лагеря. Пожалуй, лишь легкая ироничность, таившаяся в его глазах, насмешливость опытного, знающего себе цену человека позволяли догадываться, что он значительно старше, чем это могло показаться на первый взгляд.
Однако вовсе не эта спортивная, моложавая, так изумившая поначалу Леночку внешность произвела на нее наиболее сильное впечатление. Ее поразило, как он говорил.
Она отчетливо помнила завязавшийся тогда спор между Перфильевым и самоуверенным, говорливым аспирантом, приглашенным на вечеринку кем-то из Леночкиных однокурсниц. С чего возник этот спор, Леночка не знала — она выходила в этот момент на кухню, а когда вернулась, услышала голос Перфильева:
— …Нет, нет, согласитесь со мной, мы просто бросаемся из одной крайности в другую. Человек — царь природы? Покоритель ее? Властелин? Человек — звучит гордо? Да где уж там! Нынче мы уже на брюхе готовы ползать перед Ее Величеством Природой, на коленях готовы стоять, вымаливая у нее то ли милостыню, то ли прощение! Мы уже обоготворить ее готовы, благодарения ей, точно первобытные люди, вознести. А за что?.. За что, я спрашиваю!..
При всей насмешливости, даже язвительности его тона, Леночке тогда вдруг почудилась в этом голосе какая-то затаенная боль, затаенная горечь.
— А за что, спрашивается, нам так уж благодарить природу? Природа добра? Мудра? Ой ли? Кто это сказал? Она наградила человека сознанием, разумом и одновременно наделила его пониманием своей смертности, пониманием быстротечности жизни, знанием неминуемого ухода своих близких в небытие. Это ли не самая жестокая пытка? Нет, вы подумайте сами: какую трагичную судьбу уготовила человеку, своему высшему творению, эта ваша разумная, добрая, мудрая природа! И смертен-то он, и смертность свою сознает, и мучается этим сознанием, и даже вопросов типа: «Зачем? К чему все это? Какой смысл?» задавать ему не положено, потому что нет на них ответа, молчит природа!..
Аспирант что-то не без апломба возражал, но Леночка его почти не слышала. Она слышала одного Перфильева — все, что говорил он, поразило ее тем, насколько отвечали его слова ее собственным мыслям, которые она не умела, не бралась, не решалась выразить, ее собственным страхам перед смертью — да что там страхам! — ужасу, темному ужасу перед смертью, перед неизбежностью своего исчезновения, который она ощутила впервые еще девочкой и который испытывала потом еще не раз.
— Ну уж вы хотите совсем нас поссорить с природой, всем-то она вам не угодила, — сказал аспирант с некоторым раздражением. — А между тем желаете вы это признавать или нет, но человек, каждый из нас с вами — все равно порождение природы, и от этого никуда не уйдешь. Нравится вам она или не нравится, а не будь ее, не было бы и вас, и меня, и нам бы сейчас не приходилось спорить о том, добра ли, мудра ли природа. Так что поносить природу — это то же самое, что поносить родную мать.
— Да я ведь не о том! — в досаде воскликнул Перфильев. — Неужели вам никогда не приходило в голову, неужели вы никогда не задумывались над тем, что природа, развиваясь и породив человека, породив единственное живое существо, обладающее разумом, способностью мыслить, произвела таким образом на свет божий создание, способное бросить ей вызов? Ибо задать вопрос: «Зачем я? В чем смысл? В чем цель?» — разве это не вызов? Разве это не восстание против природы, против той самой мудрой природы, которая не терпит подобных вопросов? Бунт против природы и жалкое смирение перед ней — вот, если хотите, два полюса всей истории человеческого существования. Человек, если он действительно разумен, не может не бунтовать против природы, не может покорно мириться со своей участью. И потому я говорю: да здравствует бунт!