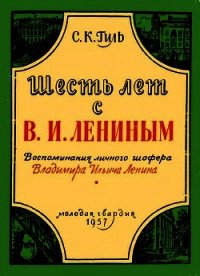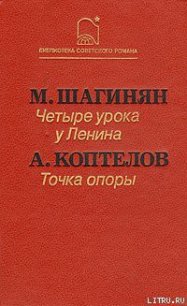Перед прыжком (Роман) - Еремин Дмитрий Иванович (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
Поняв, что парня ему не догнать, рабочий в последний раз длинно выругался, погрозил кулаком: «Тебя я еще достану!» — и, качаясь от усталости, зашагал в хвост состава.
— Чего это он тебя? — спросил Антошка, когда Веритеев ушел вместе с Оржановым в штабной вагон для подробного разговора.
— Курицу я ему продал, — со смехом ответил Филька.
— Какую курицу?
— Хохлаточку. Пестренькую…
И под хохот стоявших вокруг девчат и парней во всех подробностях рассказал, как продал рабочему курицу. Не свою, а чужую. И продал не из корысти, из любопытства.
В тот день он был сыт «от пуза», забрел от нечего делать в пристанционный поселок — взглянуть, как живут здесь люди. Значит, шел себе и шел по улочке поселка вдоль палисадников, и вдруг у одного из домиков увидел в углу между крыльцом и калиткой, ведущей во двор, пеструю курицу. Она самозабвенно копалась в пыльной земле и, поклохтав, тыкалась в нее клювом.
— Ну, думаю, ты моя! — со смаком рассказывал Филька. — Взяло меня любопытство: прижму, мол, тебя в углу — и голову прочь!
— А она?
— А она, видно, ждет, как ей башку откручу. Растопырил я руки вот так, присел на корточки и стал на нее, ну, чуть не ползти. Боюсь, закудахчет, хозяин услышит, я — пропал. И только я, значит, нацелился на нее, как этот долдон, — Филька указал глазами на далеко уже отшагавшего вдоль состава рабочего, — он возьми да сзади и подойди. Вначале я думал — курячий хозяин. Хотел было пошутить, что вот, мол, с хохлаточкой вашей тут говорю на ихнем цыплячьем языке. А он мне впрямую, сам: «Твоя?» — «Моя», — говорю. «Продай!» — «Сколько дашь?» — говорю. «Деньгами?» — «Ну, хоть деньгами». — «Пять тысяч дам». — «Э-э, говорю, задарма! Да ладно, черт с тобой, говорю, давай твои пять!» — И только он отсчитал мне пять тыщ, вот эти, — Филька вытащил из кармана штанов и показал окружающим смятую пачку денег, — как со двора, из калитки, возьми да выйди хозяин. Видно, слыхал весь наш торг. Да как хворостиной даст мне по кумполу… эно, как оцарапал. — Он показал и царапину. — Я, значит, прочь оттель вот сюда. А мой покупщик — за мной. «Отдавай, кричит, деньги мои, гад ползучий!» И все норовит догнать. Раза два камнем кинул, да не попал. И обиделся. А чего? Сам виноват! Чужим попользоваться хотел, суп с курятинкой похлебать. Вот пускай теперь и хлебает…
— А деньги? — спросил Антошка.
— Эти-то? — Филька разжал грязную, как всегда, ладонь, с огорчением оглядел измятые «сотки». — Уж так- то бы мне они пригодились… денежек нет совсем!..
— Мало ли что!
— Ну это да, — согласился парень. — Я об них тогда и не думал. Вошло в башку подшутить над долдоном, когда он стал торговаться, и все. А тут — хозяин, я и бежать…
Он еще раз взглянул на деньги, вздохнул:
— Черт с ними, пойду отдам…
Все время, пока он шел вдоль состава к последним вагонам, оставшиеся у оржановской теплушки глядели ему вслед и подшучивали:
— Отдаст?
— Не отдаст!
— Возьмет да в последний момент и нырнет под вагон: Тимохин парень таковский…
Но Филька посрамил маловеров: все внимательнее разглядывая похожие одна на другую теплушки, он деловито задерживался чуть ли не возле каждой из них, кого-то о чем-то спрашивал, потом остановился совсем, подошел к дверям намеченной теплушки вплотную и протянул туда руку.
— Отдает! — довольный, сказал Антошка.
И вдруг Филька отпрянул назад: из теплушки выпрыгнул похожий издали на медведя знакомый уже рабочий. Филька кубарем откатился прочь, вскочил и кинулся под вагоны…
Платон Головин с эшелоном не ехал. Как секретарю партбюро, ему пришлось остаться в поселке, где несколько десятков рабочих и служащих должны будут заняться инвентаризацией заводского имущества, капитальным ремонтом, приведением в порядок не только изработавшихся станков, силовых установок, но также производственных и жилых зданий, складов хозяйственного двора.
Начнет или не начнет завод после этого работать в полную силу, прибудут или нет от Мак-Кормиков необходимые для выполнения условий договора с Москвой детали и машины или придется брать завод в свои советские руки — это решится летом, после поездки Круминга к хозяевам в Америку, а подготовить цехи к следующей зиме — необходимо в любом случае.
Кроме того, еще в январе по всему Подмосковью, включая поселок, был объявлен ударный месячник сбора металлолома для ремонта сельскохозяйственного инвентаря. На складах местных исполкомов уже скопились и продолжали скапливаться груды этого лома. В сельских кузницах не умолкал перезвон молотков: ковали и чинили лемехи для плугов, бороны, грабли, лопаты, вилы, обтягивали железом полозья саней и колеса телег, обували в новенькие подковы кое-как перезимовавших, отощавших за зиму лошадей.
А некоторое время спустя и весь сельскохозяйственный год был объявлен ударным: по прогнозам специалистов — двадцать первый вряд ли будет в центральной России урожайнее и лучше двадцатого. В связи с этим, по договоренности ВСНХ с Крумингом, на заводе тоже надо было сделать немало для нужд коммун, совхозов и коллективных крестьянских хозяйств округи. И как ни хотелось Платону двинуться вместе со всеми в Сибирь, пришлось свое место в эшелоне уступить дочери: бойкая девчонка спала и видела, когда наконец все сборы закончатся и она вместе с Клавой Тимохиной, которую тоже берут вместо отца, убитого прошлой осенью во время схватки с бандитами, отправится в неведомую Сибирь за хлебом.
— Уж я-то хлебушка привезу! — с таинственным видом хвасталась Зинка. — Мне только бы до Сибири доехать!
— На какие шиши ты его привезешь? — удивлялась Дарья Васильевна. — Что возьмешь на обмен за хлеб? Чуть не голые ходим!
— Я знаю, на что! Вот увидишь: сто пудов привезу!
— Ну, сколько ни привезет, а пусть едет, — решил Платон. — Хоть с пуд заработает там, и то хорошо, зимой будет легче…
Но Зинка лучше отца и матери знала, что говорила: кое-что из Филатычева клада она успела припрятать. Не сразу, чуть погодя, но спрятала надежно. Об этом не узнал никто, кроме Клавки. А та — не выдаст…
В тот день, когда блаженный старик, пока они с Клавой самозабвенно таскали друга друга за косы, сумел пробраться во двор и увидел свое разорение, а потом пошел, спотыкаясь как чумной, прочь со двора, — в тот день на короткий миг в душе Зинки шевельнулось было острое чувство жалости:
«Может, отдать старику чугун? Догнать его и сказать: раз твое — на, Филатыч!»
Шевельнулось — и сразу пропало: «Сам-то Филатыч бедных жалел? Как бы не так, пожалеет! — сердито решила Зинка. — Сосал как паук, черт пузатый. Из чугуна ничего ему не отдам…»
Но неожиданно для нее в тот же вечер Филатыч сам явился к Головиным. Пришел злой, разъяренный. Совсем не похожий на того несчастного старика, к которому Головины уже успели привыкнуть. Не стал топтаться на месте. Не бормотал бессмыслицу, как всегда. А просто без спросу взошел на крыльцо, шагнул в сени, где Зинка заканчивала мыть полы, зыркнул по ней ненавидящим взглядом — и прошел прямо в дом.
Забыв от удивления выжать над лоханью мокрую тряпку, девчонка застыла на месте:
«Это зачем же? Неужто явился требовать клад?..»
На цыпочках она подкралась к дверям, прислушалась. Так и есть: явился за кладом.
— Партейные, а воруете? — громко кричал Филатыч по-бабьи визгливым, противным голосом. — Что же это выходит? Рази так по закону? Бандиты вы, воры! Я наживал, я схоронил, я и право имею! Мое все, мое! Отдавай мой чугун, ворюга!..
Отец сердито и удивленно басил:
— Очнись! Что я тебе отдам? Какой чугун? Рассказывай толком. О доме, что ли, опять разговор завел? Погоди! Да ты сядь, чудило…
Дальше слушать Зинка не стала. С отцом шутки плохи: расспросит Филатыча, увидит в углу двора, что разрыто. А кто разрыл? И начнет расспрос не с Антошки, а прямо с нее. Антошке батяня верит, Антошка — в него. Вон и дрова Антошка-святошка увез назад в исполком. Взял у Родика Цветкова тележку, погрузил — и все до последнего полена увез. Так что батя с него не спросит, начнет с нее: «Ну-ка, девка, что там вырыла и куда схоронила? Показывай где…» И хочешь не хочешь — покажешь. Потом из клада и денежку не дадут…